Зика. Автопортрет с челкой
Зинаида Евгеньевна Серебрякова (1884–1967)
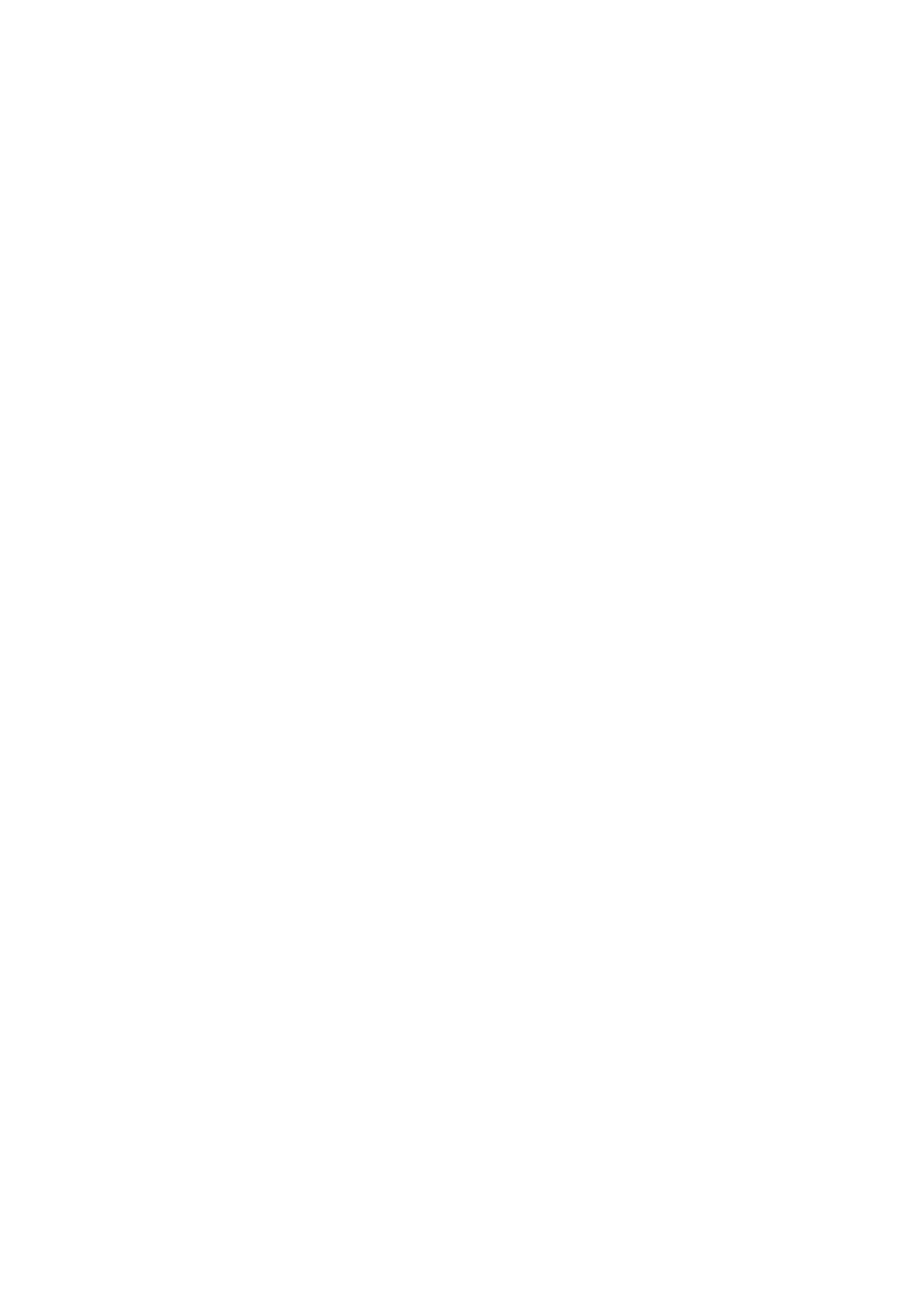
В мастерской с детьми
Дети Зинаиды Серебряковой тоже связали свои жизни с искусством: Евгений Борисович Серебряков (1906–1991) был архитектором-реставратором, Александр Борисович Серебряков (1907–1995) — художником, Татьяна Борисовна Серебрякова (1912–1989) — театральной художницей, Екатерина Борисовна Серебрякова (1913–2014) — художницей
Дети Зинаиды Серебряковой тоже связали свои жизни с искусством: Евгений Борисович Серебряков (1906–1991) был архитектором-реставратором, Александр Борисович Серебряков (1907–1995) — художником, Татьяна Борисовна Серебрякова (1912–1989) — театральной художницей, Екатерина Борисовна Серебрякова (1913–2014) — художницей
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
28 ноября (10 декабря) 1884 г. — родилась в селе Нескучное Белгородского уезда Курской губернии
1900 г. — окончание женской гимназии в Санкт-Петербурге; поступление в художественную школу княгини М.К. Тенишевой
1903—1905 гг. — обучение у художника-портретиста О.Э. Браза
1914—1917 гг. — период расцвета творчества
1924 г. — выезд на работу в Париж, последующее невозвращение в СССР
1928—1929 гг. — первая поездка в Марокко
1965—1966 гг. — большие выставки работ в СССР
19 сентября 1967 г. — скончалась в Париже, похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
28 ноября (10 декабря) 1884 г. — родилась в селе Нескучное Белгородского уезда Курской губернии
1900 г. — окончание женской гимназии в Санкт-Петербурге; поступление в художественную школу княгини М.К. Тенишевой
1903—1905 гг. — обучение у художника-портретиста О.Э. Браза
1914—1917 гг. — период расцвета творчества
1924 г. — выезд на работу в Париж, последующее невозвращение в СССР
1928—1929 гг. — первая поездка в Марокко
1965—1966 гг. — большие выставки работ в СССР
19 сентября 1967 г. — скончалась в Париже, похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
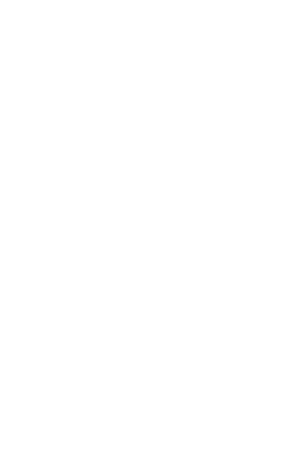
З.Е. Серебрякова. 1890-е гг.
«Жила молодая женщина в глубокой деревенской глуши, — писал А.Н. Бенуа в 1910 году, — в убогой хуторской обстановке, и не было ей другой радости, другого эстетического наслаждения в зимние дни, отрывавшие ее от всего мира, как видеть свое молодое, веселое лицо в зеркале, как видеть игру своих обнаженных рук с гребнем и гривой волос». Эти слова были не о ком-нибудь, а о русской художнице Зинаиде Евгеньевне Серебряковой, точнее, о ее знаменитом автопортрете «За туалетом» (1909). Именно эта «очень милая и свежая вещь», как назвал картину В. А. Серов, в 1910 году была замечена на VII выставке Союза русских художников в Петербурге и принесла начинающей портретистке известность. Родилась она 28 ноября 1884 года в Белгородском уезде Курской губернии в родовом имении Бенуа-Лансере Нескучное.
Об автопортрете Серебрякова (в девичестве Лансере, в 1905 году она вышла замуж за Бориса Анатольевича Серебрякова, студента Института путей сообщения, позже ставшего инженером-путейцем) вспоминала очень «просто», простота была ей свойственна во всем: «Я начала рисовать себя в зеркале и забавлялась изобразить всякую мелочь на "туалете»".
О двадцатипятилетней дебютантке сразу же заговорили как о зрелом художнике. «Дядя Шура» Бенуа позже писал в своей книге «Мои воспоминания»: «Младшая дочь Кати (Екатерины Николаевны Лансере. — А.Б.) — Зина оказалась обладательницей исключительного дара. Однако я не имею права считать ее своей ученицей. Прибыв к нам в младенческом возрасте (двух лет), она росла с сестрами как-то „вдали от моего кабинета“, где происходили наши собеседования и всякие наши затеи с Женей, с Колей (Евгений Евгеньевич и Николай Евгеньевич Лансере, братья Серебряковой. — А.Б.) и с моими друзьями. Росла Зина к тому же болезненным и довольно нелюдимым ребенком, в чем она напоминала отца и вовсе не напоминала ни матери, ни братьев и сестер, которые все отличались веселым и общительным нравом. И все же несомненно, что Зина была взращена той атмосферой, которая вообще царила в нашем доме».
Об автопортрете Серебрякова (в девичестве Лансере, в 1905 году она вышла замуж за Бориса Анатольевича Серебрякова, студента Института путей сообщения, позже ставшего инженером-путейцем) вспоминала очень «просто», простота была ей свойственна во всем: «Я начала рисовать себя в зеркале и забавлялась изобразить всякую мелочь на "туалете»".
О двадцатипятилетней дебютантке сразу же заговорили как о зрелом художнике. «Дядя Шура» Бенуа позже писал в своей книге «Мои воспоминания»: «Младшая дочь Кати (Екатерины Николаевны Лансере. — А.Б.) — Зина оказалась обладательницей исключительного дара. Однако я не имею права считать ее своей ученицей. Прибыв к нам в младенческом возрасте (двух лет), она росла с сестрами как-то „вдали от моего кабинета“, где происходили наши собеседования и всякие наши затеи с Женей, с Колей (Евгений Евгеньевич и Николай Евгеньевич Лансере, братья Серебряковой. — А.Б.) и с моими друзьями. Росла Зина к тому же болезненным и довольно нелюдимым ребенком, в чем она напоминала отца и вовсе не напоминала ни матери, ни братьев и сестер, которые все отличались веселым и общительным нравом. И все же несомненно, что Зина была взращена той атмосферой, которая вообще царила в нашем доме».
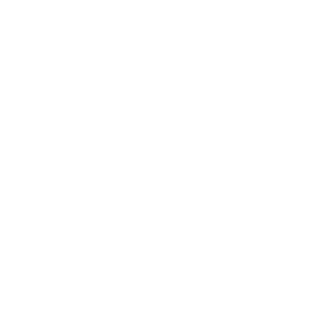
З.Е. Серебрякова. Автопортрет. 1900-е гг.
Действительно, в Нескучном никто не сидел без дела. Мать, братья, «дядя Шура» увлеченно работали, писали акварелью, которая была, по выражению Бенуа, «чем-то вроде семейной профессии». Позже брат Евгений, как и его сестра Зинаида, стал живописцем и графиком, другой брат, Николай — архитектором, Екатерина Николаевна до самой смерти писала картины просто «для себя». Именно они украсили в тяжелые послереволюционные годы стены той петроградской квартиры, в которую Зинаида Евгеньевна перебралась вместе с матерью и четырьмя своими детьми. Но обо все по порядку.
Систематического образования Зика (домашнее прозвище художницы) не получила, позже она признавалась в том, что у нее никогда не было настоящего наставника. Однако всю свою жизнь Серебрякова работала неустанно, особенно после 1917 года, когда вынуждена была практически самостоятельно содержать семью, живя в Харькове (революционеры сожгли Нескучное в 1919 году). Как вспоминала одна из сотрудниц харьковского Археологического музея, где Серебрякова подрабатывала, Г.И. Тесленко: «Я не помню случая, чтобы Зинаида Евгеньевна прилегла днем отдохнуть. Даже с книгой ее можно было видеть очень редко. Она все рисовала».
В 1900 году, окончив Коломенскую женскую гимназию, Серебрякова поступила в частное учебное заведение княгини М.К. Тенишевой, однако через месяц школа закрылась. А сама Зинаида вследствие переутомления получила рекомендацию врача срочно уехать из России для поправки здоровья. И уже осенью 1902 года вместе с матерью и тремя сестрами она отправилась в Италию: посетила Рим, Капри, изучала древнюю архитектуру, работы величайших мастеров эпохи Возрождения.
Искусствовед и друг семьи С.Р. Эрнст (его портрет Зинаида Серебрякова написала в 1921 году в Петрограде) отмечал: «Пейзажные акварельные этюды, сделанные в эти месяцы, уже довольно совершенные в технике, являются первыми серьезными работами молодой художницы».
В мае 1903 года Серебрякова поступила в мастерскую ученика Репина — О.Э. Браза, но здесь она вновь была предоставлена самой себе. Эти два года Зинаида Евгеньевна увлеченно занималась копированием Рембрандта, изучала приемы письма, технику мазков и колористические решения в картинах Рубенса и Тициана, писала собственные этюды, работала с линией. Браз своими учениками не интересовался, приходил редко, поэтому каждый рисовал, что хотел и как мог.
В 1900 году, окончив Коломенскую женскую гимназию, Серебрякова поступила в частное учебное заведение княгини М.К. Тенишевой, однако через месяц школа закрылась. А сама Зинаида вследствие переутомления получила рекомендацию врача срочно уехать из России для поправки здоровья. И уже осенью 1902 года вместе с матерью и тремя сестрами она отправилась в Италию: посетила Рим, Капри, изучала древнюю архитектуру, работы величайших мастеров эпохи Возрождения.
Искусствовед и друг семьи С.Р. Эрнст (его портрет Зинаида Серебрякова написала в 1921 году в Петрограде) отмечал: «Пейзажные акварельные этюды, сделанные в эти месяцы, уже довольно совершенные в технике, являются первыми серьезными работами молодой художницы».
В мае 1903 года Серебрякова поступила в мастерскую ученика Репина — О.Э. Браза, но здесь она вновь была предоставлена самой себе. Эти два года Зинаида Евгеньевна увлеченно занималась копированием Рембрандта, изучала приемы письма, технику мазков и колористические решения в картинах Рубенса и Тициана, писала собственные этюды, работала с линией. Браз своими учениками не интересовался, приходил редко, поэтому каждый рисовал, что хотел и как мог.
«Ныне она одарила русскую публику таким прекрасным даром, такой “улыбкой во весь рот”, что нельзя не благодарить ее. …Автопортрет Серебряковой — несомненно, самая приятная, самая радостная вещь. Там страдания ума, усилия рассудка, большое мастерство, большая строгость, большой подвиг. Здесь полная непосредственность и простота, истинный художественный темперамент. Что-то звонкое, молодое, смеющееся, солнечное и ясное, что-то абсолютно художественное, и я должен сознаться, что эта сияющая жизненность мне ближе и отраднее, нежели та холодная мысль о жизни».
А.Н. Бенуа. VII выставка «Союза» (1910 г.)
Последняя попытка получить образование была предпринята в Париже в 1905 году. Зинаида Евгеньевна поступила в Академию де ля Гранд Шомье. За год обучения ей даже не удалось встретиться со своими руководителями, художниками Симоне и Доше. Однако она продолжала самостоятельную работу, делала зарисовки фигур, оттачивала мастерство контурной линии, добивалась пластичности изображения человеческих тел.
Как и всякая женщина, Зинаида Серебрякова была погружена в свою семью. Муж и четверо детей (дочери — Тата и Катя, сыновья — Шурик и Женя) стали ее миром. К сожалению, именно его революция и разрушила в первую очередь. В 1919 году умер ее муж. В конце 1920 года Серебрякова переехала вместе с детьми и матерью в Петроград. Тата вспоминала: «В эти годы мама встречалась с художниками С.П.Яремичем, К.А. Сомовым, В.В. Воиновым, Г.С. Верейским, П.И. Нерадовским, О.Э. Бразом и другими.
Как и всякая женщина, Зинаида Серебрякова была погружена в свою семью. Муж и четверо детей (дочери — Тата и Катя, сыновья — Шурик и Женя) стали ее миром. К сожалению, именно его революция и разрушила в первую очередь. В 1919 году умер ее муж. В конце 1920 года Серебрякова переехала вместе с детьми и матерью в Петроград. Тата вспоминала: «В эти годы мама встречалась с художниками С.П.Яремичем, К.А. Сомовым, В.В. Воиновым, Г.С. Верейским, П.И. Нерадовским, О.Э. Бразом и другими.
Она получила разрешение бывать за кулисами бывшего Мариинского театра. Удивительно скромная ее маленькая фигурка по воскресеньям и средам (в дни балетных спектаклей) появлялась в балетных уборных, где она непрерывно делала наброски с одевающихся и гримирующихся артисток и подружилась со многими из них. Так родились композиции на тему одевающихся балерин и серии их портретов». И далее: «Если в первые годы она работала в технике темперы, масла, то в 1921 году попробовала работать пастелью, к тому же в своеобразной, только ей присущей манере, используя пастозность наложения, легкую штриховку и растушевку. По плотности цвета, лаконичности и строгости рисунка эти произведения не уступают работам, исполненным маслом». В это время Зинаида Евгеньевна бралась за все, часто писала на заказ.
Рисовала Серебрякова и своих детей. В 1914 году все четверо, еще совсем маленькие, изображены в картине «За обедом», в 1917-м — «Тата и Катя» за столом, в 1919 году — сыновья «Мальчики в матросках и тельняшках», и снова в том же году — ребята вчетвером строят «Карточный домик». В последней картине исследователи творчества Серебряковой особенно любят искать потаенный смысл. Кто-то видит в ней глубокий символизм и последний поклон Серебряному веку, другие склонны сравнивать шаткость карточного домика и грусть в глазах детей с предчувствиями грядущей тяжелой жизни в эмиграции. Но как бы там ни было, эта картина вошла в собрание шедевров Государственного Русского музея.
Рисовала Серебрякова и своих детей. В 1914 году все четверо, еще совсем маленькие, изображены в картине «За обедом», в 1917-м — «Тата и Катя» за столом, в 1919 году — сыновья «Мальчики в матросках и тельняшках», и снова в том же году — ребята вчетвером строят «Карточный домик». В последней картине исследователи творчества Серебряковой особенно любят искать потаенный смысл. Кто-то видит в ней глубокий символизм и последний поклон Серебряному веку, другие склонны сравнивать шаткость карточного домика и грусть в глазах детей с предчувствиями грядущей тяжелой жизни в эмиграции. Но как бы там ни было, эта картина вошла в собрание шедевров Государственного Русского музея.
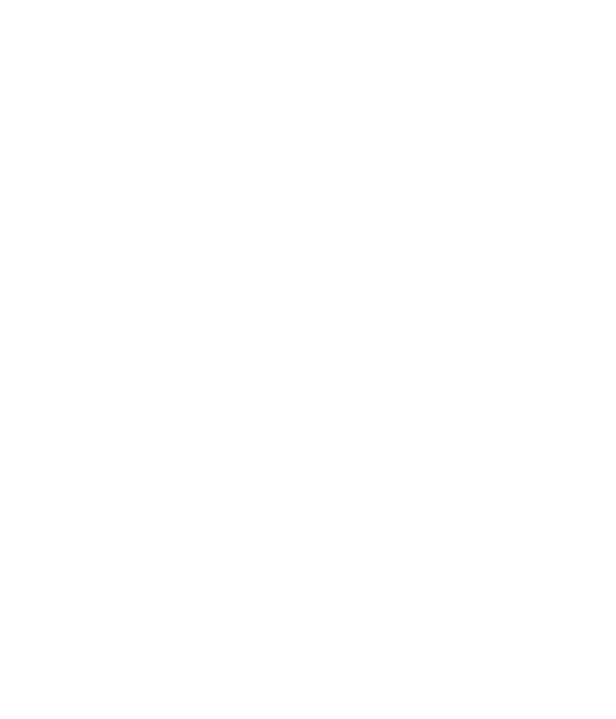
З.Е. Серебрякова. За туалетом. Автопортрет. 1909 г.
Конечно, Серебрякова, как и всякий талантливый художник, время от времени испытывала влияние разных течений и направлений в искусстве. Так, в «Пьеро (Автопортрет в костюме Пьеро)» (1911) за внешней театральностью явно видно влияние символизма. А в знаменитых пейзажах — «Озими» (1910), «Зеленя осенью» (1908), «Пейзаж. Село Нескучное Курской губернии» (1916), — судя по живости цвета, можно говорить об импрессионизме. Импрессионизм — это последнее, что художница приняла после реализма. Она восхищалась живописью Ренуара и Дега, но не считала «гениями» Матисса, Сезанна и других. Все-таки Репин и Шишкин были ей ближе. Авангардизма, который Зинаида Евгеньевна застала уже в эмиграции (куда выехала в 1924 году в надежде на лучшую долю), она не понимала и не хотела понимать. В 1958 году она писала Тате: «Думала насладиться привезенной коллекцией картин из Америки, но оказалось, что это сплошь одни абстрактные, кошмарные по наглости и бездарности маранья холстов! Просто какой-то дикий позор».
Зинаида Евгеньевна с юности была «захвачена» картинами А.Г. Венецианова, позже переняла его же принцип: «Пиши, что видишь, не мудри». К тому же в доме, где росла Зика, частыми гостями были К.А. Сомов, Л.С. Бакст, А.П. Нурок, В.Ф. Нувель, Д.В. Философов и С.П. Дягилев, позже (1898) создавшие художественную группу «Мир искусства». Главной своей целью они провозгласили проповедь «вечных» художественных и духовных ценностей. Впервые репродукции картин Серебряковой появились именно в одноименном журнале этого объединения. В ее ранних работах видны не только «стремление к гармонии», но и по-ренессансному преподнесенная человеческая красота.
«Уменья, мастерства у Серебряковой полная мера. Но особая прелесть ее мастерства заключается в том, что и оно не лезет вперед, оно совершенно свободно. Оно сложилось свободно, вне затхлости академических классов; оно и сейчас, несмотря на полную свою зрелость, все так же свободно от педантизма и раз навсегда установленных приемов. Разумеется, картины Серебряковой можно сразу узнать среди тысяч других произведений живописи. Но это основано не на какой-либо “манере”, а получается это фамильное сходство всех произведений между собой оттого, что каждое из них создано в одинаковом возбуждении, с одинаковым воодушевлением, и что сторона мастерства всюду подчинена стороне эмоциональной».
А.Н. Бенуа. «Художественные письма. По выставкам. Зинаида Серебрякова» (1932 г.)
Возможно, благодаря разбору «восхитительных» работ Венецианова Серебрякова впервые обратила внимание на так называемую крестьянскую тему, которая занимает в ее творчестве значительное место. «Зинаида Евгеньевна всегда рисовала крестьян: на сенокосе, на жатве, в саду, — вспоминала В.Н. Дудченко, одна из натурщиц. — … Она очень любила крестьян-тружениц. Для картин выбирала женщин крепких, рослых, передавала их силу, бодрость, прилежание к труду, аккуратность. В картине “Крестьянка с квасником” (1914 год. — А.Б.) изображена Поля Гречкина (Молчанова) из села Нескучное. В “Жатве” (1915 год. — А.Б.) — жители той же деревни, всех я не помню, а вот в центре — Марина Безбородова с хлебом, высокая, стройная, красивая крестьянка. “Холсты белят” (точное название “Беление холста”, 1917 год. — А.Б.) — тоже жители этой деревни. Картину “Баня” (1913 год. — А.Б.) Зинаида Евгеньевна писала в Петербурге в своей мастерской на Васильевском острове… Натурщицами для этой картины были также девушки и молодые женщины, которые служили домашними работницами в городе». Мало того что Серебрякова решилась стать художницей (тогда дерзость неслыханная), так еще зачастую предметом ее картин были обнаженные женщины (в те времена это изумляло, а в советское время и вовсе шокировало). Одна из самых ярких картин — «Купальщица» (1911).
На протяжении всей жизни Зинаида Евгеньевна продолжала писать автопортреты: «Автопортрет с кистью» (1924), просто «Автопортрет» (1956) и другие работы, где изображала себя все с той же знаменитой челкой, в рабочей блузе, с кистями.
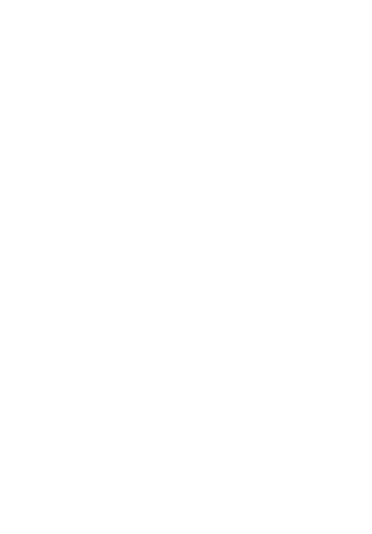
З.Е. Серебрякова. Автопортрет с кистью. 1924 г.
В Париж она выехала в надежде найти денег для того, чтобы прокормить семью. Детей оставила на время в Петрограде. Лишь через год ей удалось выписать к себе Шурика, в 1928 году — Катю, которые тоже неплохо рисовали, и художница решила, что жизнь в Париже будет им полезна; к тому же матери, жившей в России, будет проще управляться только с Татой и Женей. Тогда Зинаида Евгеньевна даже не подозревала о том, что оставляет близких на долгие 36 лет. О встрече с матерью через годы вспоминала Тата: «Мама никогда не любила сниматься, я не представляла себе, как она теперь выглядит, и была обрадована, увидев, что она до странности мало изменилась. Она осталась верна себе не только в своих убеждениях в искусстве, но и во внешнем облике. Та же челка, тот же черный бантик сзади, и кофта с юбкой, и синий халат, и руки, от которых шел какой-то с детства знакомый запах масляных красок».
Жизнь в эмиграции превратилась в «одну суету, одну нервность и отчаяние». Не было мастерской, постоянно не хватало денег. Серебрякова собиралась было рисовать французских рабочих, но натурщики не хотели позировать просто так. Она с горечью писала домой: «Ужасно жалею, что прозябаю и бездействую здесь, где нет пищи моему желанию… писать и рисовать». Но все же каждое лето Зинаида Евгеньевна и Катя уезжали в Бретань, на юг Франции или в Швейцарию, где днями писали пейзажи, делали зарисовки. Но были и портреты, например «Хозяйка бистро» (1934) и другие. Все тот же прекрасный, свежий реализм. В 1928 и 1932 годах Серебряковой удалось выехать в Марокко, так появилась серия экзотических этюдов, но написать полноценные картины не получилось и там.
Жизнь в эмиграции превратилась в «одну суету, одну нервность и отчаяние». Не было мастерской, постоянно не хватало денег. Серебрякова собиралась было рисовать французских рабочих, но натурщики не хотели позировать просто так. Она с горечью писала домой: «Ужасно жалею, что прозябаю и бездействую здесь, где нет пищи моему желанию… писать и рисовать». Но все же каждое лето Зинаида Евгеньевна и Катя уезжали в Бретань, на юг Франции или в Швейцарию, где днями писали пейзажи, делали зарисовки. Но были и портреты, например «Хозяйка бистро» (1934) и другие. Все тот же прекрасный, свежий реализм. В 1928 и 1932 годах Серебряковой удалось выехать в Марокко, так появилась серия экзотических этюдов, но написать полноценные картины не получилось и там.
«Может быть, мой “психологический анализ” не верен, может быть, я ошибаюсь, но в признании наличия у Екатерины Серебряковой большого таланта — ошибки нет. Вся ее живопись реалистична. У нее зоркий глаз, у нее много чутья в выборе того, что ей звучит, что ее пленяет и что ей дорого, но она владеет еще чем-то, что даже назвать я затрудняюсь. Это “нечто” — тоже особый дар, который можно развить или заглушить, но которому научиться нельзя, ибо этот дар есть звучание души. Ее цветы или ягоды — малина, крыжовник — не только замечательно “сделаны”, создают иллюзию настоящих ягод, только что сорванных цветов, но они напоены еще каким-то налетом поэзии…»
В.Ф. Зеелер. «О выставке З.Е. и Е.Б. Серебряковых 1954 г. в парижской мастерской на улице Кампань-Премьер» (1954 г.)
Тем временем абстракционизм отвоевывал все больше и больше пространства, завладевая умами почитателей искусства. Реалистам места почти не оставалось.
Когда-то давно в России Серебряковой были заказаны панно («Индия», «Турция», «Сиам» и «Япония») для оформления Казанского вокзала, но контракт аннулировали. Уже в эмиграции она создала панно для усадьбы Мануар дю Реле в Помрейле близ Монса в Бельгии, которые чудом сохранились до наших дней.
Вот только в Россию художница так и не вернулась. К моменту разрешения въезда она была уже слишком стара. В 1965 году домой, на Родину, приехали ее картины. Была организована большая выставка. А в 1967 году 19 сентября Зинаида Серебрякова в возрасте 82 лет умерла не приходя в сознание, накануне у нее случилось кровоизлияние.
Когда-то давно в России Серебряковой были заказаны панно («Индия», «Турция», «Сиам» и «Япония») для оформления Казанского вокзала, но контракт аннулировали. Уже в эмиграции она создала панно для усадьбы Мануар дю Реле в Помрейле близ Монса в Бельгии, которые чудом сохранились до наших дней.
Вот только в Россию художница так и не вернулась. К моменту разрешения въезда она была уже слишком стара. В 1965 году домой, на Родину, приехали ее картины. Была организована большая выставка. А в 1967 году 19 сентября Зинаида Серебрякова в возрасте 82 лет умерла не приходя в сознание, накануне у нее случилось кровоизлияние.
На той самой выставке в 1965 году вместе с другими работами был показан и самый знаменитый, «по-пушкински простой» автопортрет «За туалетом» — им восхищались критики, ценители и просто любители искусства.
Пожалуй, есть в этом свой символизм…
Пожалуй, есть в этом свой символизм…
Алена Бондарева
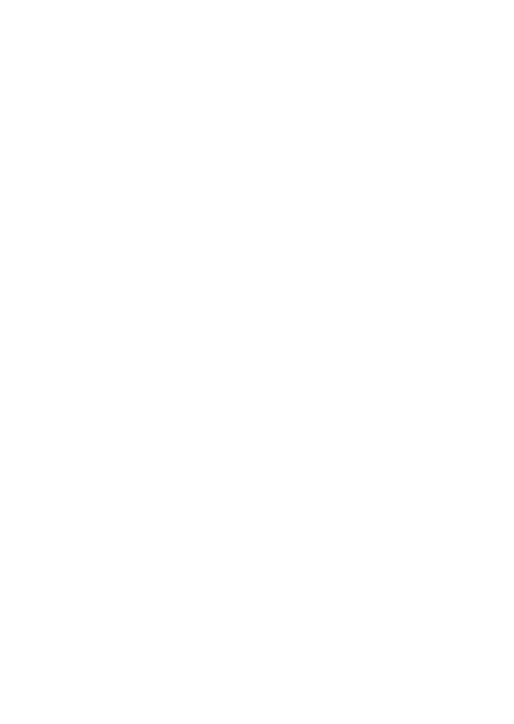
Париж. Набережная Сены
Выехав в 1924 году на работу в Париж, З.И. Серебрякова остаток жизни провела в столице Франции. Французское гражданство она получила только в 1947 году