Продолжатели традиций
Князь
Никита Лобанов-Ростовский
Никита Лобанов-Ростовский
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
6 января 1935 г. — родился в Софии (Болгария). Потомок княжеского рода Лобановых-Ростовских. Его дед, Иван Николаевич, с семьей в 1919 г. эмигрировал из Советской России
1946 г. — после ввода в Болгарию советских войск семья Лобановых-Ростовских пыталась выехать из страны, но была арестована на греческой территории. Никита провел год в заключении в болгарской тюрьме
1951 г. — стал чемпионом Болгарии по плаванию среди юношей на дистанциях в 100 и 200 метров в стиле брасс
Сентябрь 1953 г. — вместе с матерью выехал в Париж
1958 г. — окончил Оксфордский университет
1960–1962 гг. — занимался разведкой нефти в Патагонии (Аргентина), поисками ртути в Тунисе и на Аляске, никеля в Венесуэле, железа в Либерии, работал на алмазных разработках в пустыне Калахари (Южная Африка)
1970–1979 гг. — занимал должность вице-президента американского Wells Fargo Bank, возглавлял отделения этого банка в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке
1987–1997 гг. — состоял советником южноафриканской компании «Де Бирс»
1970 г. — впервые посетил Москву, где передал ЦГАЛИ архив русского театрального художника-эмигранта С.Ю. Судейкина
1979 г. — переехал из Сан-Франциско в Лондон, где и проживает по настоящее время
2005 г. — награжден орденом Дружбы за вклад в сохранение русского искусства
2010 г. — получил российское гражданство за особые заслуги перед Россией
2016 г. — избран почетным членом Российской академии художеств
Н.Д. Лобанов-Ростовский — член Союза благотворителей Музея Метрополитен, член Ассоциации американских ученых русского происхождения (Лос-Анджелес, США), член Совета директоров Международного фонда искусства и просвещения (Вашингтон, США), первый заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников (Москва) и др.
6 января 1935 г. — родился в Софии (Болгария). Потомок княжеского рода Лобановых-Ростовских. Его дед, Иван Николаевич, с семьей в 1919 г. эмигрировал из Советской России
1946 г. — после ввода в Болгарию советских войск семья Лобановых-Ростовских пыталась выехать из страны, но была арестована на греческой территории. Никита провел год в заключении в болгарской тюрьме
1951 г. — стал чемпионом Болгарии по плаванию среди юношей на дистанциях в 100 и 200 метров в стиле брасс
Сентябрь 1953 г. — вместе с матерью выехал в Париж
1958 г. — окончил Оксфордский университет
1960–1962 гг. — занимался разведкой нефти в Патагонии (Аргентина), поисками ртути в Тунисе и на Аляске, никеля в Венесуэле, железа в Либерии, работал на алмазных разработках в пустыне Калахари (Южная Африка)
1970–1979 гг. — занимал должность вице-президента американского Wells Fargo Bank, возглавлял отделения этого банка в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке
1987–1997 гг. — состоял советником южноафриканской компании «Де Бирс»
1970 г. — впервые посетил Москву, где передал ЦГАЛИ архив русского театрального художника-эмигранта С.Ю. Судейкина
1979 г. — переехал из Сан-Франциско в Лондон, где и проживает по настоящее время
2005 г. — награжден орденом Дружбы за вклад в сохранение русского искусства
2010 г. — получил российское гражданство за особые заслуги перед Россией
2016 г. — избран почетным членом Российской академии художеств
Н.Д. Лобанов-Ростовский — член Союза благотворителей Музея Метрополитен, член Ассоциации американских ученых русского происхождения (Лос-Анджелес, США), член Совета директоров Международного фонда искусства и просвещения (Вашингтон, США), первый заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников (Москва) и др.
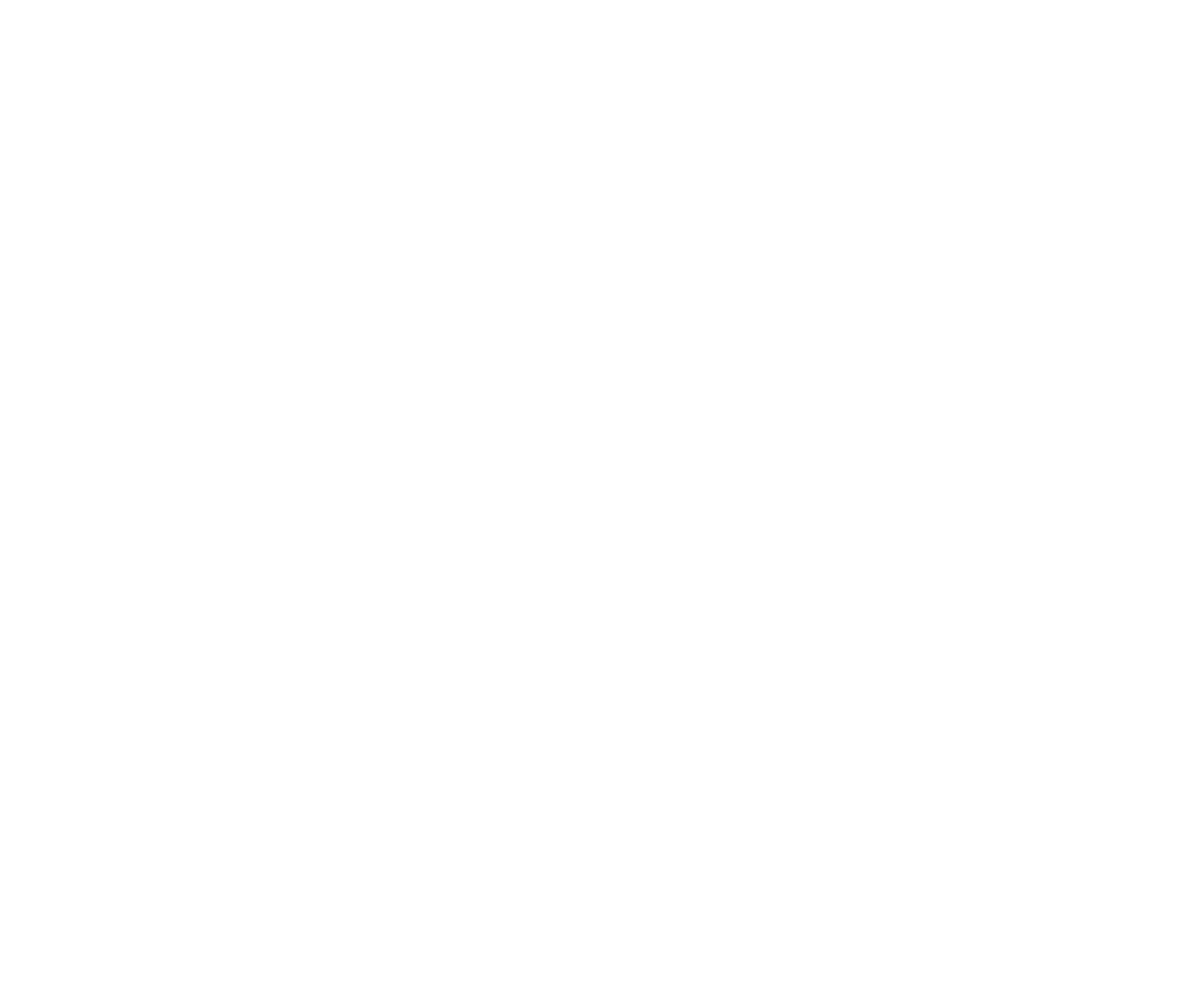
Н.Д. Лобанов-Ростовский (справа) и продюсер проекта «Русское зарубежье. Великие соотечественники» Г.Ю. Попов в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына с первым альбомом серии. Февраль 2019 г.
Фото А.Л. Савельева
Некоторых выдающихся представителей русского зарубежья я знал лично, других — по рассказам знакомых и родственников, работы третьих, на тот момент не нужные Европе, покупал и собирал.
Расскажу о некоторых то, что является частью воспоминаний и о моей жизни. Попутно кое-где восстанавливая историческую правду. Большинство моих частных впечатлений и размышлений связано с лицами, которые являются героями этой серии альбомов. Но не только…
Расскажу о некоторых то, что является частью воспоминаний и о моей жизни. Попутно кое-где восстанавливая историческую правду. Большинство моих частных впечатлений и размышлений связано с лицами, которые являются героями этой серии альбомов. Но не только…
Александра Львовна Толстая — одна из самых видных личностей русской эмиграции в Нью-Йорке. Она создала Толстовский фонд с целью помогать беженцам из России. И для этого приобрела ферму в Вэлли Коттедж (штат Нью-Йорк), с северной стороны от Манхэттена. Там она дала приют многим неимущим русским людям, например, балерине Ольге Спесивцевой, которую я на ферме навещал. Как это случилось?
Я дружил с балетоведом, Джоем Виши (Joe Wishy), который хотел взять у Спесивцевой интервью и нуждался в переводчике. Он говорил на английском, Спесивцева его знала слабовато. Переводчиком стал я. И тогда я познакомился с Толстой, которую заочно уже очень уважал, поскольку Александра Львовна уговорила президента Гувера создать Архив. Гуверовского института (Hoover Institution Archives), где находится масса документов по истории России. Среди общественных помещений фермы Толстовского фонда была большая библиотека, которой мой дядя Николай Сергеевич Арсеньев, философ и историк культуры, завещал все свои книги…
Я дружил с балетоведом, Джоем Виши (Joe Wishy), который хотел взять у Спесивцевой интервью и нуждался в переводчике. Он говорил на английском, Спесивцева его знала слабовато. Переводчиком стал я. И тогда я познакомился с Толстой, которую заочно уже очень уважал, поскольку Александра Львовна уговорила президента Гувера создать Архив. Гуверовского института (Hoover Institution Archives), где находится масса документов по истории России. Среди общественных помещений фермы Толстовского фонда была большая библиотека, которой мой дядя Николай Сергеевич Арсеньев, философ и историк культуры, завещал все свои книги…
В то время я дружил с канадским миллионером, Робертом Тименсом (Robert Timmins), живущим в Нью-Йорке, которому принадлежала компания по продаже ценных бумаг, акций и облигаций. Его отец создал эту фирму в 1920-х годах, и ее комнаты были в стиле того времени облицованы деревянными панелями и обставлены тяжелой темной мебелью. В один прекрасный день мой приятель решил переехать в небоскреб из стекла, с огромными окнами и белыми стенами — модерн! А прежнее убранство собирался ликвидировать. Я спросил: «Мог бы ты отдать мне его?» Он ответил: «Да». Я позвонил Толстой, рассказал, что представляется случай получить дорогую обстановку для фермы, и спросил: есть ли у них грузовик? Оказалось, есть. Приехали, демонтировали — и с тех пор эта мебель и панели украшают библиотеку фермы…
Александра Львовна производила на меня впечатление делового человека и не была похожа на тех женщин, которые выходят замуж. Известно, что у нее была подруга, как, скажем, у Саломеи Николаевны Андрониковой.
Толстая была очень умным и активным человеком, которого я уважал, но дружеских взаимоотношений между нами не возникло. Она не была привлекательной, казалась резкой. Однако мне всегда бывает интересно беседовать с деловыми людьми, чувствовать, что в результате разговора будут предприняты конкретные действия.
Александра Львовна производила на меня впечатление делового человека и не была похожа на тех женщин, которые выходят замуж. Известно, что у нее была подруга, как, скажем, у Саломеи Николаевны Андрониковой.
Толстая была очень умным и активным человеком, которого я уважал, но дружеских взаимоотношений между нами не возникло. Она не была привлекательной, казалась резкой. Однако мне всегда бывает интересно беседовать с деловыми людьми, чувствовать, что в результате разговора будут предприняты конкретные действия.
Ох, Ольга Спесивцева была изящным существом. Она находилась в известном возрасте, но даже при нищете Толстовского фонда простая юбка на ней сидела весьма элегантно. Она держала себя как балерина. Вот был человек, с которым приятно было проводить время! И слушать ее рассказы, о чем бы она ни говорила — о прошлом, о балете, о «Сезонах» С.П. Дягилева. Несмотря даже на то, что она в то время уже и забывала что-то, и путала. Мне нравилось разговаривать с ней о чем угодно, предмет разговора был неважен. В отличие от Толстой, единственной точкой соприкосновения с которой была деятельность…
С Зинаидой Шаховской я познакомился в Париже. Я много лет знал о ней как об издателе «Русской мысли». А однажды от кого-то услышал, что у нее есть эскизы русских художников, в частности Павла Челищева, за которыми я охотился. И таким образом я попал к ней и стал бывать в ее квартире: с ней было очень интересно беседовать! Для меня она была первоисточником информации о русских театральных художниках. Ее суждения о них и их характеристики были конкретными и затрагивали суть вопроса. Хотя все мои усилия что-нибудь у нее приобрести были неуспешными. Наверное, потому, что у нее не было нужды в деньгах: обычно, это главная причина, чтобы расстаться со своим имуществом. Кроме того, возможно, я не был достаточно убедителен. Как бы то ни было, я нисколько не жалею о потерянном времени. Она знала все! Всю русскую эмиграцию, поскольку встречалась со многими ее деятелями в своей газете. Не было темы, на которую с ней невозможно было бы поговорить. Я думаю, она была «аналогом» Нины Берберовой, которую, впрочем, я не знал лично. Шаховская была внешне приятной, среднего роста, формы у нее были «ренуаровские», в отличие, скажем, от «модильяновских» форм Спесивцевой…
С Зинаидой Шаховской я познакомился в Париже. Я много лет знал о ней как об издателе «Русской мысли». А однажды от кого-то услышал, что у нее есть эскизы русских художников, в частности Павла Челищева, за которыми я охотился. И таким образом я попал к ней и стал бывать в ее квартире: с ней было очень интересно беседовать! Для меня она была первоисточником информации о русских театральных художниках. Ее суждения о них и их характеристики были конкретными и затрагивали суть вопроса. Хотя все мои усилия что-нибудь у нее приобрести были неуспешными. Наверное, потому, что у нее не было нужды в деньгах: обычно, это главная причина, чтобы расстаться со своим имуществом. Кроме того, возможно, я не был достаточно убедителен. Как бы то ни было, я нисколько не жалею о потерянном времени. Она знала все! Всю русскую эмиграцию, поскольку встречалась со многими ее деятелями в своей газете. Не было темы, на которую с ней невозможно было бы поговорить. Я думаю, она была «аналогом» Нины Берберовой, которую, впрочем, я не знал лично. Шаховская была внешне приятной, среднего роста, формы у нее были «ренуаровские», в отличие, скажем, от «модильяновских» форм Спесивцевой…
В Софии я посещал драматический театр, как я тогда считал, не часто, может быть, раз в месяц, оперу гораздо чаще, по крайней мере, раз в неделю. Надо сказать, что тогда в Болгарии времен диктатуры пролетариата театр, опера и балет считались искусством для народа, наравне с кинематографом, как учил нас когда-то Ленин. Потому билеты в оперу, театр и кинематограф были одинаковой стоимости! Но пролетариат предпочитал идти в кино: солдаты и матросы, хоть давай им билеты задарма, не шли на «Тоску» Джакомо Пуччини. Поэтому в 1950-е годы на спектакли в софийской опере или в драматическом театре всегда можно было попасть. Я восхищался актером Николаем Осиповичем Массалитиновым (теперь я знаю, что его родная сестра — знаменитая русская актриса Варвара Осиповна Массалитинова). На фоне болгарских актеров он был настолько выше классом, настолько интереснее! У него была прекрасная дикция и замечательный русский язык. В наши дни такой актерской культуры уже почти не существует в России. Почему школа Станиславского угасла? Где Качаловы, где все те актеры, которые владели настоящей русской речью? Остались островки подлинного мастерства, например, Евгений и Галина Киндиновы, которые превосходно читали со сцены прозу моей бабушки, Веры Дмитриевны Лобановой- Ростовской; это был текст, написанный почти столетие назад …
Но почему не продолжается традиция? Это сказывается и в опере, где дикция вообще пропала! Наслаждением было видеть и слушать актера Массалитинова на сцене. Уникальный случай, когда выпускник школы Малого театра был приглашен в МХТ! Он был очень обаятельным человеком, увлекательным рассказчиком. Мы встречались с ним в Русском клубе, где он мило и дружелюбно беседовал. В софийском театре, где он служил, спектакли игрались на русском языке, участвовали болгарские артисты и русские эмигранты. Николай Осипович — одна из самых значимых личностей, мною встреченных, на чьи спектакли ходили не только русские эмигранты, но, главным образом, болгары.
Расскажу об одной из встреч с композиторами Николаем Набоковым и Игорем Стравинским. За столом сидели Игорь Стравинский, его супруга Вера, Николай Набоков, его сын Иван (который пригласил мою первую супругу Нину и меня) и его жена Клод, урожденная Жокс, дочь французского посла в Москве, а затем председателя Сената. Встреча состоялась в ресторане, находившемся возле Линкольн-центра в Манхэттене.
Расскажу об одной из встреч с композиторами Николаем Набоковым и Игорем Стравинским. За столом сидели Игорь Стравинский, его супруга Вера, Николай Набоков, его сын Иван (который пригласил мою первую супругу Нину и меня) и его жена Клод, урожденная Жокс, дочь французского посла в Москве, а затем председателя Сената. Встреча состоялась в ресторане, находившемся возле Линкольн-центра в Манхэттене.
Надо заметить, что Вера Стравинская некогда была женой художника Судейкина. Иван представил меня Вере: «Это Никита Лобанов-Ростовский» — Вера ответила: «Встречались» — и загадочно улыбнулась. Причиной такого ответа было то, что за пять лет до этого разговора, на выставке ее живописи на стекле в галерее «Хаттон» на Мэдисон-авеню, хозяин галереи точно так же представил меня. Вера сказала: «Да, мы не знакомы».
Когда господин Хаттон отошел, я перешел на русский язык: «Это не совсем так. Я заочно с вами знаком очень интимно». Лицо ее резко изменилось. Пришлось пояснить: «Я бывал у вашей преемницы Джин. Среди работ Судейкина, которые я думал у нее купить, я видел альбом набросков размером 60 на 40 сантиметров, в котором на 20 листах Судейкин изобразил интимные уголки вашего тела в самых разнообразных ракурсах». Вера расхохоталась и ответила: «Да, помню, помню». Этот альбом, как и часть архива Судейкина, я передал в СССР, в Центральный государственный архив литературы и искусства (теперь РГАЛИ), в 1970 году.
Возвращаюсь к обеду в Нью-Йорке. Игорь и Николай начали беседу с того, что вспоминали физиологические подробности: итоги того, что они съели и выпили за прошедший день. Меня, конечно, эта беседа очень смутила, ибо тогда я еще не читал книгу Николая Набокова «Багаж». В ней автор объясняет, что многие отпрыски из высшего общества его поколения имели английских нянек, чья главная забота заключалась в том, чтобы ребенок был «регулярным» по утрам. И этот сюжет открыто обсуждался в семье и между няньками.
Возвращаюсь к обеду в Нью-Йорке. Игорь и Николай начали беседу с того, что вспоминали физиологические подробности: итоги того, что они съели и выпили за прошедший день. Меня, конечно, эта беседа очень смутила, ибо тогда я еще не читал книгу Николая Набокова «Багаж». В ней автор объясняет, что многие отпрыски из высшего общества его поколения имели английских нянек, чья главная забота заключалась в том, чтобы ребенок был «регулярным» по утрам. И этот сюжет открыто обсуждался в семье и между няньками.
Николай был настолько обаятельным и умелым рассказчиком, что за те полтора часа, что мы провели в ресторане, никому, кроме Игоря, не удалось вставить слово. А ведь каждый из нас мог бы сравнить балетный сезон Дж. Баланчина с сезоном Американского балетного театра (American Ballet Theatre), имея по этому поводу собственные впечатления…
Эль Лисицкий. Я познакомился с его сыном Йеном, когда тот жил под Москвой. У него я приобрел множество работ его отца. Важно для меня то, что этот художник, основатель стиля рекламного плаката, продвинул идеи Тулуз-Лотрека, доведя их до максимального эффекта минимальными средствами. Жизнь его рекламы — этикетки чернил, сделанной для фирмы «Пеликан», и по сей день продолжается в Германии…
Первые работы Мстислава Добужинского я купил в 1965 году в Нью-Йорке, когда навестил его сына Всеволода по адресу: 273, Хэмлок-стрит в Бруклине. Позже, в 1972 году, я встретился с другим его сыном Ростиславом, который жил в Париже по адресу: 11, рю Эрнест Крессон. Оба сына были художниками. Несмотря на их постоянные усилия ознакомить общественность с творчеством отца, много лет после смерти Мстислава Добужинского мало кто вне России знал о его оригинальном художественном творчестве.
Первые работы Мстислава Добужинского я купил в 1965 году в Нью-Йорке, когда навестил его сына Всеволода по адресу: 273, Хэмлок-стрит в Бруклине. Позже, в 1972 году, я встретился с другим его сыном Ростиславом, который жил в Париже по адресу: 11, рю Эрнест Крессон. Оба сына были художниками. Несмотря на их постоянные усилия ознакомить общественность с творчеством отца, много лет после смерти Мстислава Добужинского мало кто вне России знал о его оригинальном художественном творчестве.
Помимо образной живописи, в 1940-х годах Добужинский удачно писал абстрактные композиции, что отличало его от собратьев-мирискусников, таких как Бенуа, Билибин, Остроумов-Лебедев, Сомов. Благодаря своему изумительному таланту живописца и быстроте исполнения, Добужинский получал много оформительских заказов от театров.
Добужинский эмигрировал, когда ему было 50 лет. Его коллеги-эмигранты — Бенуа, Коровин, Сомов, Стеллецкий — жили во Франции, Добужинский же постоянно кочевал из страны в страну, из города в город. Несмотря на возраст, он обладал богатым воображением и исключительной работоспособностью, которые побуждали его к новым экспериментам и творческим достижениям. Рассматривая графику Добужинского, невозможно не отметить разнообразие стилей и широту тематики в его произведениях.
Добужинский эмигрировал, когда ему было 50 лет. Его коллеги-эмигранты — Бенуа, Коровин, Сомов, Стеллецкий — жили во Франции, Добужинский же постоянно кочевал из страны в страну, из города в город. Несмотря на возраст, он обладал богатым воображением и исключительной работоспособностью, которые побуждали его к новым экспериментам и творческим достижениям. Рассматривая графику Добужинского, невозможно не отметить разнообразие стилей и широту тематики в его произведениях.
Основоположница конструктивизма в русском театральном оформлении и графике, Александра Экстер обязана художнику Семену Лиссиму и скульптору Владимиру Издебскому тем, что смогла выжить в парижской эмиграции в тяжкие годы Второй мировой войны и послевоенной разрухи. В частности, Лиссим внес Экстер в списки благотворительной организации «Кейр» (Care), и по ее адресу стали регулярно поступать продуктовые посылки. Экстер была давней любовью их общей киевской юности. Издебский тоже старался пересылать ей посылки с вещами и консервами, пользуясь услугами той же организации. До конца жизни Экстер переписывалась с обоими своими друзьями, делясь горестями и печалями нищей эмигрантской жизни.
От Лиссима мы с моей первой супругой Ниной узнали, что Александра Экстер ушла из жизни в 1949 году в пригороде Парижа Фонтене-о-Роз. А ее наследие — в соответствии с ее завещанием — было отправлено по почте Лиссиму в Нью-Йорк. Однако мы были уверены, что кое-какие работы должны были оставаться в Париже. И когда в 1965 году мы оказались на несколько месяцев в Париже, то занялись их поисками.
От Лиссима мы с моей первой супругой Ниной узнали, что Александра Экстер ушла из жизни в 1949 году в пригороде Парижа Фонтене-о-Роз. А ее наследие — в соответствии с ее завещанием — было отправлено по почте Лиссиму в Нью-Йорк. Однако мы были уверены, что кое-какие работы должны были оставаться в Париже. И когда в 1965 году мы оказались на несколько месяцев в Париже, то занялись их поисками.
В один прекрасный день мы отправились на автомобиле в Фонтене-о-Роз, безуспешно расспрашивали об Экстер в местных лавочках, однако удача ждала нас в мэрии, где сначала не хотели давать последнего адреса «мадам Жорж Некрасовой» (то есть Экстер), но сдались при виде журналистского удостоверения Нины.
По этому последнему адресу мы ничего не нашли, зато потом вступили в переписку с владелицей дома, где жила Экстер, Иветтой Анзиани. В результате мы подробно восстановили для себя жизнь Экстер в эмиграции и получили сведения о ее творческой деятельности. Побывали тогда и у сестры милосердия, ухаживавшей за Экстер; ее небольшая квартира вся была заполнена работами художницы.
По этому последнему адресу мы ничего не нашли, зато потом вступили в переписку с владелицей дома, где жила Экстер, Иветтой Анзиани. В результате мы подробно восстановили для себя жизнь Экстер в эмиграции и получили сведения о ее творческой деятельности. Побывали тогда и у сестры милосердия, ухаживавшей за Экстер; ее небольшая квартира вся была заполнена работами художницы.
Но приобрести работы Экстер у меня не получалось, пока я не встретился с Лиссимом под Нью-Йорком, в городке Доббс-Ферри на берегу Гудзона. У нас с Ниной тогда были весьма скудные средства, и Лиссим, зная это и учитывая наш интерес к русской театральной живописи, пригласил нас к себе домой, где устроил своеобразную выставку, но только из театральных работ художницы, не включив в нее абстрактные произведения маслом. И предложил… выбрать 10 работ, заплатив за каждую, сколько мы сможем. Второго показа не будет! Выбирать следовало тщательно. Я отобрал и предложил за каждую из них по 30 долларов. Хотя и таких денег у нас не было, предлагать меньшую цену выглядело бы совсем неприличным. Лиссим дал нам еще и рассрочку на два года. Заметьте: в 1989 году на аукционе «Сотбис» работа Экстер из собрания Костаки ушла за один миллион долларов!
Когда Семен Лиссим вышел на пенсию, он захотел переселиться в солнечную Флориду, а работы Экстер решил не брать с собой, а продать. Предложил их мне за 15 тысяч долларов, но в начале 1970-х годов такая сумма была для меня неподъемной. В результате энергичных поисков нашелся партнер — искусствовед Наков, который загорелся этой идеей и организовал поддержку двух галерей — парижской и американской. А те дали деньги на покупку, помогли с реставрацией. Так в 1972 году состоялась первая ретроспективная вставка Александры Экстер в Париже. А ведь когда в 1964 году мы с Ниной выставили в музее Метрополитен часть ее коллекции, никто и знать не знал такую художницу!
Когда Семен Лиссим вышел на пенсию, он захотел переселиться в солнечную Флориду, а работы Экстер решил не брать с собой, а продать. Предложил их мне за 15 тысяч долларов, но в начале 1970-х годов такая сумма была для меня неподъемной. В результате энергичных поисков нашелся партнер — искусствовед Наков, который загорелся этой идеей и организовал поддержку двух галерей — парижской и американской. А те дали деньги на покупку, помогли с реставрацией. Так в 1972 году состоялась первая ретроспективная вставка Александры Экстер в Париже. А ведь когда в 1964 году мы с Ниной выставили в музее Метрополитен часть ее коллекции, никто и знать не знал такую художницу!

У Лиссима я купил письма Экстер, где она рассказывала о лишениях во время войны, о нищенской жизни эмиграции. Я передал их в ЦГАЛИ в 1970 году, вместе с архивом художника Сергея Судейкина, который приобрел у его вдовы. Письма и ныне там находятся. Теперь этот архив описан и опубликован в путеводителе по РГАЛИ за 1998 год (выпуск 7), и я надеюсь, что он доступен для всех интересующихся. Меня лишь огорчает, что книги о русских художниках выходят чаще за пределами России. Среди иностранных авторов, занимающихся темой русского искусства, самый продуктивный — американец Джон Боулт. Он пишет, по крайней мере, по одной книге в год…
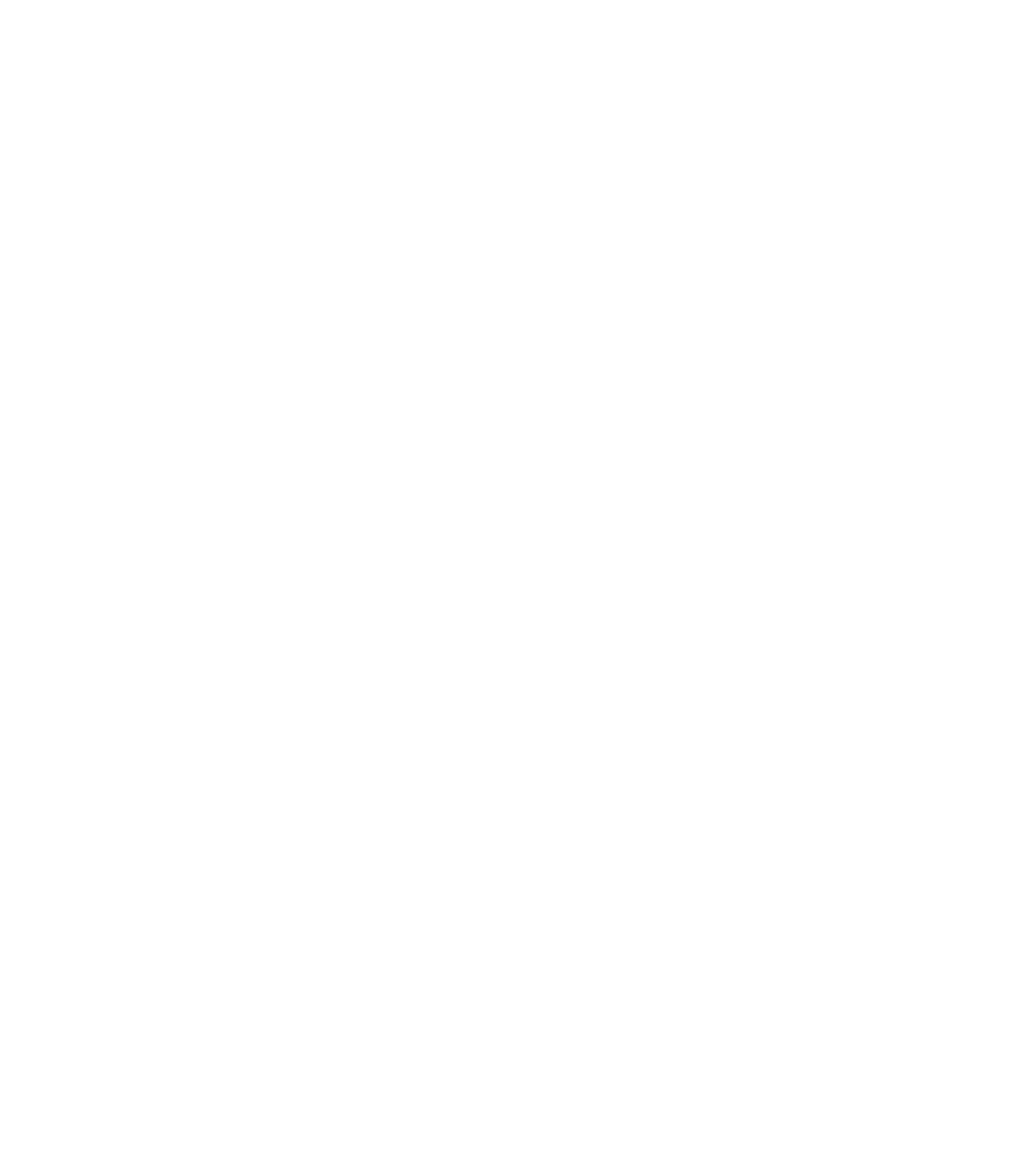
В 1970-х годах я встречался и с представителями новой эмиграции. Михаил Барышников оказался в моем поле зрения, потому что моя первая супруга Нина, как и я, интересовалась балетом. Мы общались с балетным миром, у нас был с Михаилом Барышниковым общий друг, Гордон Гетти (Gordon Getty), один из сыновей американского нефтяного магната Жана Пола Гетти, который принимал у себя людей искусства и сам был музыкантом.
Кстати сказать, Гордон Гетти дорого заплатил Метрополитен-опера, чтобы один раз спеть в спектакле, хотя у него не было нужных вокальных данных. Но он был, помимо прочего, располагающим к себе человеком, и там пошли навстречу его необычному желанию…
Барышников, как и Нуреев, оказали огромную услугу мировому балету. Сложно поверить в то, что я сейчас говорю, но был момент, когда эти два танцора столь подняли популярность этого вида театрального искусства в Америке, что на балет продавалось больше билетов, чем на бейсбол: а ведь это национальная спортивная игра в США!
Кстати сказать, Гордон Гетти дорого заплатил Метрополитен-опера, чтобы один раз спеть в спектакле, хотя у него не было нужных вокальных данных. Но он был, помимо прочего, располагающим к себе человеком, и там пошли навстречу его необычному желанию…
Барышников, как и Нуреев, оказали огромную услугу мировому балету. Сложно поверить в то, что я сейчас говорю, но был момент, когда эти два танцора столь подняли популярность этого вида театрального искусства в Америке, что на балет продавалось больше билетов, чем на бейсбол: а ведь это национальная спортивная игра в США!
Некоторые считают Барышникова лучшим танцором, чем Рудольф Нуреев. Трудно оценить их первенство, но каждый из них оставил в памяти зрителей представление о высоком балете… Это была одна компания, включая Наталью Макарову. Барышников интересовался живописью, собрал довольно большую коллекцию художников «Мира искусства», я также замечал его явный интерес к литературе. B разговоре чувствовалось, что Барышников разнопланово одаренный человек, его можно охарактеризовать как танцора-интеллектуала. При наших редких встречах я больше слушал Барышникова, поскольку мне были интересны его литературные суждения.
Встречался я и с Михаилом Шемякиным. Он произвел на меня впечатление человека, который самоутверждался, играя какую-то роль с помощью созданной им для себя формы. Так, бывший мэр Москвы Юрий Лужков пригласил нас к себе домой на ужин в Лондоне: Шемякин и там сидел в фуражке даже за обедом. Шемякин также всегда носит одежду полувоенного образца. Значит, ему нужно утверждаться через одежду, так в 1920-х годах поступали футуристы. Зачем это делать? Видимо, потребность.
Шемякин — образованный и интересный собеседник, умный человек, и отмеченные мною особенности его облика и поведения отходили на второй план, как только он начинал говорить. Помню, как Шемякин объяснял свое увлечение новшествами.
Известно, что художники входят в историю искусства не только благодаря своему таланту, но и из-за того, что нового привнесли они в живопись. Часто при этом не имея ярко выраженного таланта. Новое у Шемякина — уличный мусор. Он ходит ночами по улицам, например, в Париже, и запечатлевает то, что видит среди мусора и грязи. Он выставляет такие работы. Это новшество достойно внимания, но это не искусство и не ремесло, потому что тут не требуется никакого усилия, это явление должно иметь другое название. Я пока не могу подобрать подходящее слово.
С чем большинство «несовременных» людей отожествляет искусство? С тем удовольствием, которое получает от его созерцания: вы входите в диалог с картиной, что-то в ней импонирует вам, воздействует на вашу психику и душу. Если этого эффекта нет — произведение «стерильно», то есть пусто. Оно вам ничего не говорит, и потому — не живописно в принципе. Можно назвать это «чистым ремеслом», но существуют и просто намалеванные вещи…
Когда произносишь имя «Шемякин», то что видишь? Прежде всего, неких воображаемых людей-клоунов в фантастических конфигурациях. Данную манеру он перенял у своей первой жены Ревекки Модлиной. По случайности, посетив одну даму-коллекционершу в Лондоне, я увидел 20 произведений Модлиной, которые эта дама приобрела у галеристки Аллы Булянской. Дама объяснила мне, каким образом Шемякин создал свой «клоунский» стиль. Но при этом Шемякин самобытен, удачлив, однако, на мой взгляд, в нем превалирует не талант, а новаторство.
Шемякин — образованный и интересный собеседник, умный человек, и отмеченные мною особенности его облика и поведения отходили на второй план, как только он начинал говорить. Помню, как Шемякин объяснял свое увлечение новшествами.
Известно, что художники входят в историю искусства не только благодаря своему таланту, но и из-за того, что нового привнесли они в живопись. Часто при этом не имея ярко выраженного таланта. Новое у Шемякина — уличный мусор. Он ходит ночами по улицам, например, в Париже, и запечатлевает то, что видит среди мусора и грязи. Он выставляет такие работы. Это новшество достойно внимания, но это не искусство и не ремесло, потому что тут не требуется никакого усилия, это явление должно иметь другое название. Я пока не могу подобрать подходящее слово.
С чем большинство «несовременных» людей отожествляет искусство? С тем удовольствием, которое получает от его созерцания: вы входите в диалог с картиной, что-то в ней импонирует вам, воздействует на вашу психику и душу. Если этого эффекта нет — произведение «стерильно», то есть пусто. Оно вам ничего не говорит, и потому — не живописно в принципе. Можно назвать это «чистым ремеслом», но существуют и просто намалеванные вещи…
Когда произносишь имя «Шемякин», то что видишь? Прежде всего, неких воображаемых людей-клоунов в фантастических конфигурациях. Данную манеру он перенял у своей первой жены Ревекки Модлиной. По случайности, посетив одну даму-коллекционершу в Лондоне, я увидел 20 произведений Модлиной, которые эта дама приобрела у галеристки Аллы Булянской. Дама объяснила мне, каким образом Шемякин создал свой «клоунский» стиль. Но при этом Шемякин самобытен, удачлив, однако, на мой взгляд, в нем превалирует не талант, а новаторство.
Скажу несколько слов о своем дядюшке, герое французского Сопротивления Николае Васильевиче Вырубове. Я вспомнил его в связи с Ильей Глазуновым, который в 1969 году прибыл в Париж для создания панно в огромном здании штаб-квартиры ЮНЕСКО. Приехал со своей выставкой по приглашению Ива Монтана, Симоны Синьоре, Иветт Шовире и внука Л.Н. Толстого, Сергея Михайловича. После окончания ра-боты Глазунову хотелось продлить свое пребывание в Париже, несмотря на визовое ограничение с советской стороны. Обычные шаги в этом направлении не увенчались успехом. Тогда Глазунов обратился к брату моей матери, Николаю Васильевичу Вырубову, за помощью. Глазунов объяснил Николаю Васильевичу, что если генерал Ш. де Голль попросит Глазунова написать портрет, то советские власти не смогут отказать художнику в продлении его французской визы. Будучи в дружеских отношениях с де Голлем, мой дядя объяснил генералу ситуацию, на что де Голль отреагировал письменной просьбой к Глазунову.
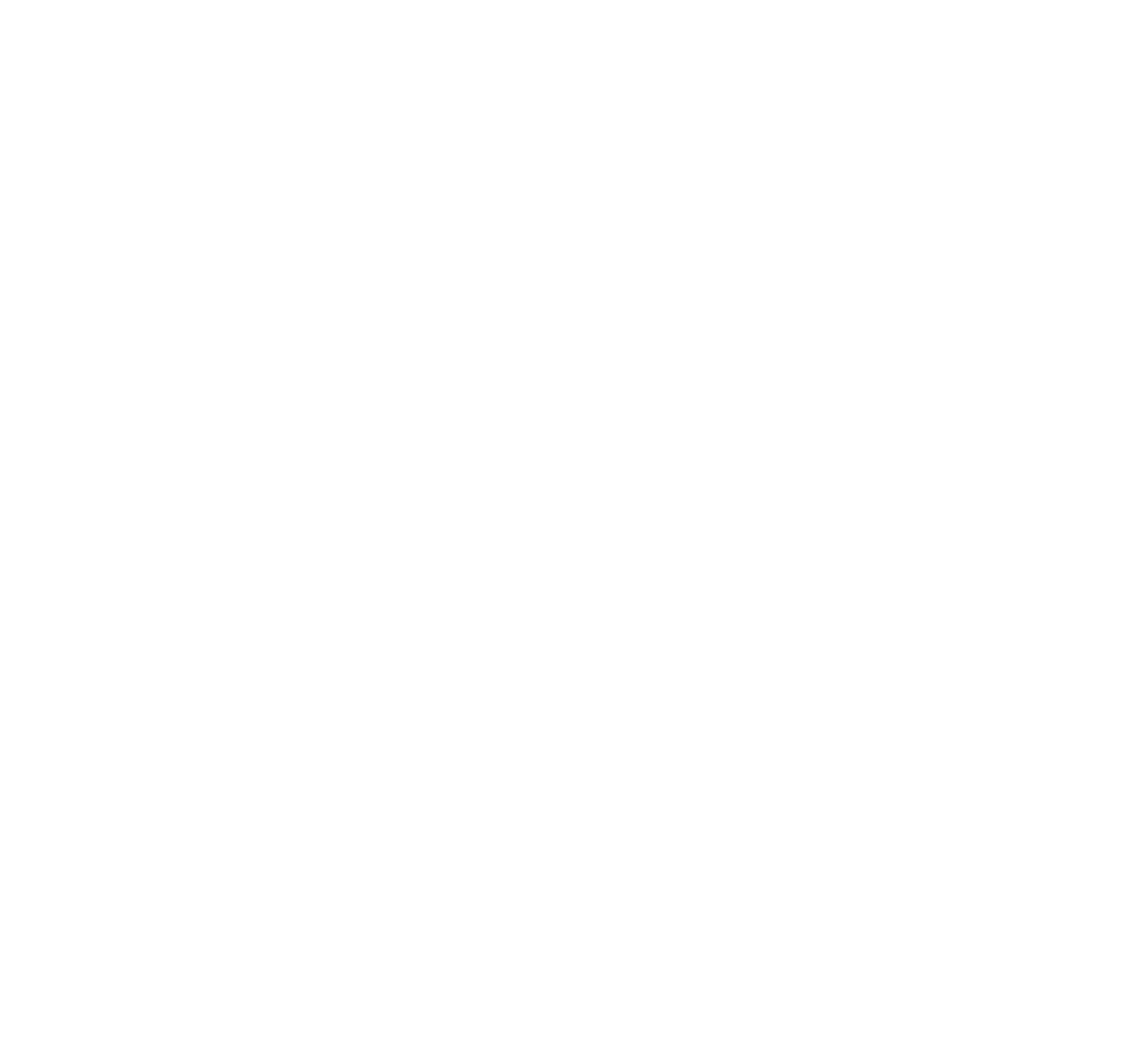
Так художнику удалось продлить свое пребывание в Париже. (Мой рассказ опровергает информацию в Интернете, где сообщается, что Глазунов был приглашен генералом де Голлем в Париж для написания его портрета.)
В знак признательности Глазунов создал два портрета Николая Васильевича и его супруги Сабин. К сожалению, ни Сабин, ни Николаю Васильевичу эти работы не понравились. Я неоднократно просил Николая Васильевича отдать мне полотна, коль они им пришлись не по душе. Увы, мне было отказано. В конце концов, Николай Васильевич уничтожил эти портреты, считая их некачественными.
В знак признательности Глазунов создал два портрета Николая Васильевича и его супруги Сабин. К сожалению, ни Сабин, ни Николаю Васильевичу эти работы не понравились. Я неоднократно просил Николая Васильевича отдать мне полотна, коль они им пришлись не по душе. Увы, мне было отказано. В конце концов, Николай Васильевич уничтожил эти портреты, считая их некачественными.