Хоровой атаман
Сергей Алексеевич Жаров
(1896–1985)
(1896–1985)
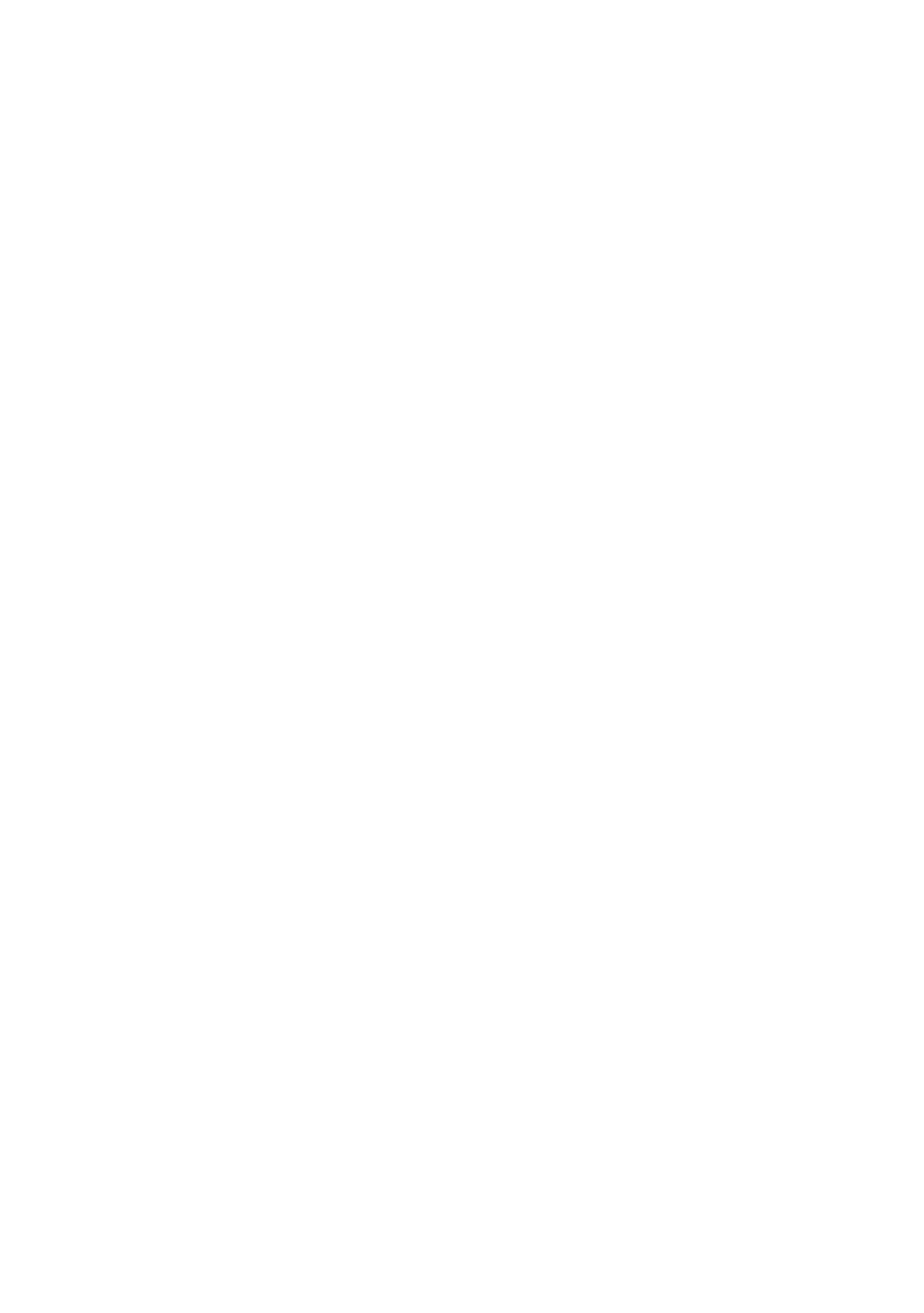
С композитором Сергеем Рахманиновым
Солист хора Иван Ассур вспоминал: «Жаров словно гипнотизирует. Вы будете делать все, что он хочет»
Солист хора Иван Ассур вспоминал: «Жаров словно гипнотизирует. Вы будете делать все, что он хочет»
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
20 марта (1 апреля) 1896 г. — родился в г. Макарьеве Костромской губернии
1906 г. — поступил в Синодальное училище церковного пения в Москве
1918–1919 гг. — принимал участие в военных действиях во время Гражданской войны на стороне белых
1920 г. — эмигрировал в Турцию, где организовал сводный хор казаков
1921 г. — переезд в Болгарию
1920–1930 гг. — активная концертная деятельность Хора донских казаков
1939 г. — переезд в США вместе с хором
1950–1970-е гг. — гастроли в Европе, Южной Америке, Японии, Австралии
17 октября 1981 г. — введен в Палату славы Конгресса русских американцев
9 октября 1985 г. — скончался в г. Лейквуд, США
20 марта (1 апреля) 1896 г. — родился в г. Макарьеве Костромской губернии
1906 г. — поступил в Синодальное училище церковного пения в Москве
1918–1919 гг. — принимал участие в военных действиях во время Гражданской войны на стороне белых
1920 г. — эмигрировал в Турцию, где организовал сводный хор казаков
1921 г. — переезд в Болгарию
1920–1930 гг. — активная концертная деятельность Хора донских казаков
1939 г. — переезд в США вместе с хором
1950–1970-е гг. — гастроли в Европе, Южной Америке, Японии, Австралии
17 октября 1981 г. — введен в Палату славы Конгресса русских американцев
9 октября 1985 г. — скончался в г. Лейквуд, США
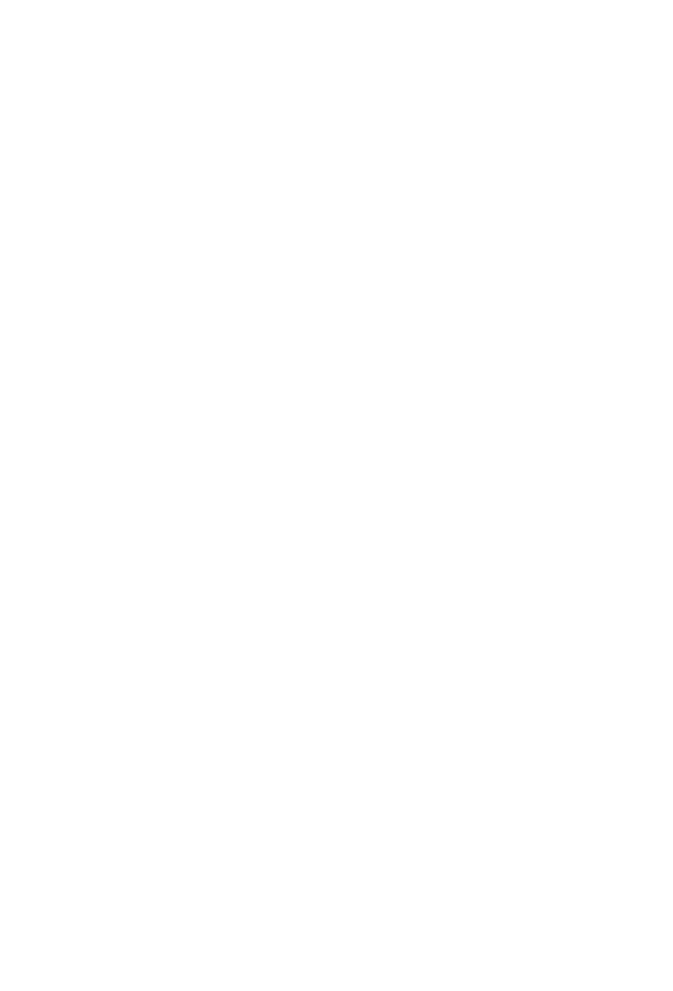
С.А. Жаров. 1920-е гг.
На самом деле Сергей Жаров никаким атаманом не был. Он и казаком-то по своему происхождению не являлся. Его биография похожа на приключенческий остросюжетный сериал: столько в ней невероятных эпизодов с непредсказуемым исходом, столько неожиданностей, поразительных встреч и творческих взлетов. Вся его жизнь была посвящена великому делу — прославлению русской хоровой музыки.
Родился Сергей Алексеевич Жаров 20 марта (1 апреля) 1896 года в старинном волжском городе Макарьеве Костромской губернии в семье купца второй гильдии. Когда подошло время, он был отдан в местное Первое приходское мужское училище, а в 1906 году поступил в московское Синодальное училище. Его педагогами были выдающиеся мастера церковного хорового пения Н.М. Данилин, А.Д. Кастальский, Н.С. Голованов. Пока у Сережи Жарова не «сломался» голос, он пел в Синодальном хоре. В 1915–1917 годах он руководил хором при Обществе трудовой помощи инвалидам войны, находившемся под опекой великой княгини Елизаветы Федоровны. Хор выступал в московских госпиталях, участвовал в богослужениях.
Родился Сергей Алексеевич Жаров 20 марта (1 апреля) 1896 года в старинном волжском городе Макарьеве Костромской губернии в семье купца второй гильдии. Когда подошло время, он был отдан в местное Первое приходское мужское училище, а в 1906 году поступил в московское Синодальное училище. Его педагогами были выдающиеся мастера церковного хорового пения Н.М. Данилин, А.Д. Кастальский, Н.С. Голованов. Пока у Сережи Жарова не «сломался» голос, он пел в Синодальном хоре. В 1915–1917 годах он руководил хором при Обществе трудовой помощи инвалидам войны, находившемся под опекой великой княгини Елизаветы Федоровны. Хор выступал в московских госпиталях, участвовал в богослужениях.
«Со зловещей быстротой распространялась по баракам холера… и еще больше упал дух томящегося в неволе гарнизона. Уцелевший рапорт дивизионного врача от декабря 1921 года является ценным документом того времени… Это было самое тяжелое время нашего изгнания. Оторванность от всего мира, голод, лишения и страх перед надвигающейся эпидемией отнимали всякую веру, всякую надежду на лучшие, на более отрадные дни: и только другая вера, вера в справедливость Всевышнего, с каждым днем крепла у казаков. Чувствовался необыкновенный религиозный подъем».
С.А. Жаров. Из интервью журналисту Е. Клинскому
(1931 г.)
Революция и Гражданская война сломала судьбу Жарова, как это случилось у многих его сверстников. Он был мобилизован в Красную армию, но спустя непродолжительное время оказался в рядах Донского корпуса генерала К.К. Мамантова, который совершал в августе — сентябре 1919 года рейд по тылам красных во время наступления деникинских частей на Москву. В следующем году 10-й казачий полк, где служил Жаров, отступая, оказался в Крыму. Там Сергей иногда выступал с музыкальными номерами. В ноябре 1920 года Донской корпус вместе с Русской армией генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля был эвакуирован в Константинополь.
Время действия — 1921 год. Место — лагерь смерти Чилингир под Константинополем, где покинувшие Родину после Гражданской войны казаки сотнями умирали от истощения и болезней. Начальник дивизии отдал приказ собрать войсковой казачий хор, который своим
участием в богослужениях поднимал бы угнетенный дух солдат. Организатором хора стал Жаров. В декабре, в праздник св. Николая Чудотворца, хор донских казаков под его управлением пропел свой первый молебен. С этого дня начался путь прославленного музыкального коллектива.
Время действия — 1921 год. Место — лагерь смерти Чилингир под Константинополем, где покинувшие Родину после Гражданской войны казаки сотнями умирали от истощения и болезней. Начальник дивизии отдал приказ собрать войсковой казачий хор, который своим
участием в богослужениях поднимал бы угнетенный дух солдат. Организатором хора стал Жаров. В декабре, в праздник св. Николая Чудотворца, хор донских казаков под его управлением пропел свой первый молебен. С этого дня начался путь прославленного музыкального коллектива.
Прокручивая ленту жизни хорового атамана, мы увидим, как вместе с хором он переезжал с места на место в поисках надежного пристанища: греческий остров Лемнос, болгарский город Бургас… В Болгарии казачьему хору удалось найти средства к существованию. Для своего первого концерта в Бургасе, крупном портовом городе на Черном море, казаки нарисовали гигантские рекламные плакаты и развесили их повсюду. Правда, доход от первого концерта был мизерным — 240 левов, но главное, что их выступление понравилось публике. В летнее время хор приглашали давать концерты в местном Софийском соборе, куда захаживали многие русские эмигранты. Эти первые успехи вдохновили Жарова: он понял, что можно зарабатывать на жизнь при помощи концертов.
Хор переехал в Софию. Здесь Жаров со своими певчими, которых насчитывалось 32 человека, выступил 23 июня 1923 года в кафедральном соборе Св. Александра Невского.
Хор переехал в Софию. Здесь Жаров со своими певчими, которых насчитывалось 32 человека, выступил 23 июня 1923 года в кафедральном соборе Св. Александра Невского.
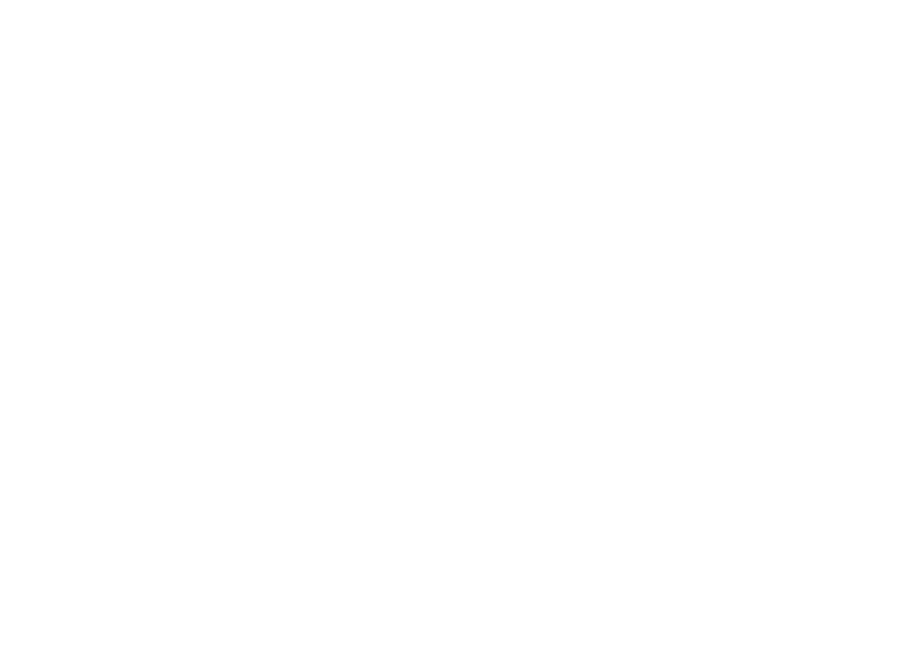
С.В. Рахманинов (в центре), С.А. Жаров (рядом слева) и артисты хора. 1920-е гг.
Неисповедимы пути Господни… В то время в Софии находилась знаменитая русская балерина Тамара Карсавина. Именно она стала первым продюсером хора донских казаков. Располагая широким кругом знакомств среди дипломатов, Карсавина организовала хору приглашения на приемы в испанском, американском и французском посольствах. Так у хора появились поклонники и последовали предложения переехать в Западную Европу.
Певцы покинули Софию с французскими визами, но дальше Белграда уехать не удалось из-за денежных затруднений. Затем хор оказался в Вене, где 4 июля должен был состояться концерт в великолепном зале «Хофбург». Для Жарова и его артистов наступил «момент истины». Ведь другой такой возможности могло и не представиться.
Певцы покинули Софию с французскими визами, но дальше Белграда уехать не удалось из-за денежных затруднений. Затем хор оказался в Вене, где 4 июля должен был состояться концерт в великолепном зале «Хофбург». Для Жарова и его артистов наступил «момент истины». Ведь другой такой возможности могло и не представиться.
Хор исполнил «Тебе поем, Тебе благословим» С. В. Рахманинова, встреча с которым у юного Сережи Жарова произошла при первом исполнении рахманиновской «Литургии» 25 ноября 1910 года: тогда, будучи певчим в хоре Синодального училища, он был обласкан великим композитором. Успех концерта в Вене был грандиозным. Слушатели говорили, что им открылась широкая русская душа. Хор Жарова получил признание, поступило множество приглашений на выступления в других городах и странах.
«У нас одно общее прошлое. Одна общая цель впереди. У нас одна общая вера, один общий идеал».
С.А. Жаров (1923 г.)
Чем хор покорял аудиторию? Знатоки говорят, что «тайной» жаровского дирижирования был его творческий подход: он не ограничивал себя замыслом композитора, а шел дальше. Роль Сергея Алексеевича, вкладывавшего в работу с хором все свои силы и талант без остатка, неоценима. Жаров сам составлял партитуры, аранжировал произведения для хора. Он постоянно искал новые средства звуковой выразительности: то вводил партию теноров-фальцетов, благодаря чему значительно расширялся диапазон хора, то усиливал нижнюю часть хорового диапазона, которую подкрепляли басы-октависты, уверенно чувствовавшие себя в верхней части контроктавы. Особая тембровая окраска звука достигалась и тем, что часть хора пела с закрытыми ртами.
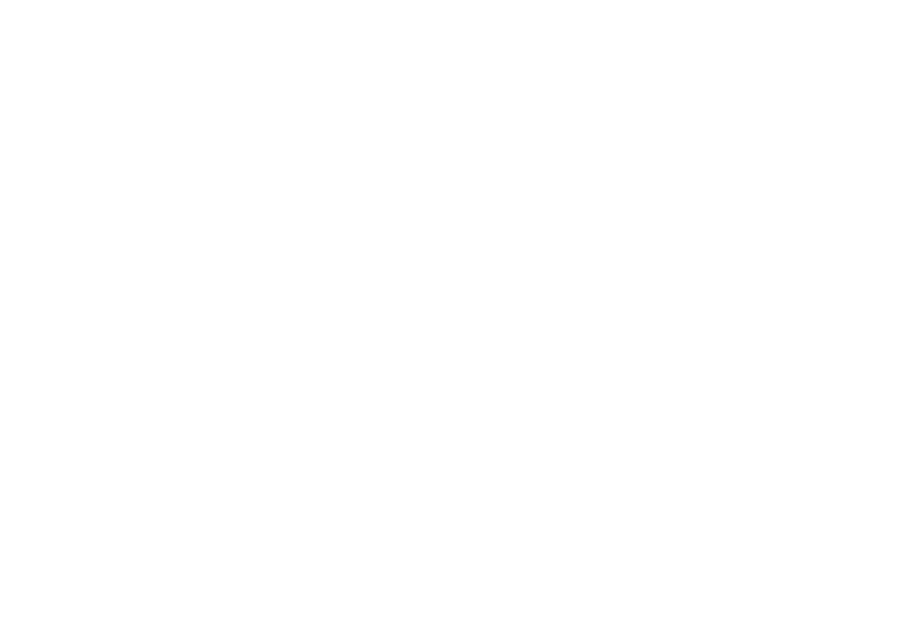
Хор донских казаков. Программа одного из концертов. 1942 г.
Жарова иногда называли «безруким дирижером». Почему? В своих жестах он был крайне лаконичен, даже скуп. Этому его на учил С.В. Рахманинов, показавший скрытый потенциал мимики и движений рук дирижера, используя который, можно стремительно наращивать динамическое звучание хора, переводя его из нежного pianissimo в мощное forte.
Своеобразие дирижерского мастерства Жарова отмечалось критиками, которые подчеркивали нешаблонность подходов «хорового атамана» к исполняемым произведениям. А ведь начинал Сергей Алексеевич свою дирижерскую карьеру неудачно. Худенький, маленького роста, был он, по собственным словам, «болезненно горд и самолюбив». Но детское самолюбие переросло с годами в целеустремленность, ведущую к осознанной цели — потрясать хоровым искусством души и сердца слушателей.
Своеобразие дирижерского мастерства Жарова отмечалось критиками, которые подчеркивали нешаблонность подходов «хорового атамана» к исполняемым произведениям. А ведь начинал Сергей Алексеевич свою дирижерскую карьеру неудачно. Худенький, маленького роста, был он, по собственным словам, «болезненно горд и самолюбив». Но детское самолюбие переросло с годами в целеустремленность, ведущую к осознанной цели — потрясать хоровым искусством души и сердца слушателей.
«Вспоминаю свой главный экзамен: управление оркестром — первое публичное выступление. Стою за пюпитром. Дирижирую сюиту Аренского. Увлекаюсь… Порывисто взмахиваю правой рукой и чувствую, что манжетка, не прикреплённая к рубашке, соскальзывает мне на руку. Задержать ее не могу — держу в руке дирижерскую палочку. Еще мгновение, и я вижу, как она, соскользнув по палочке, дугой летит в оркестр… Смущение… Среди музыкантов — моих коллег, учеников школы — приглушенный смех. У меня темнеет в глазах, хочу все бросить и выбежать из зала. Стараюсь найти потерянное место сюиты, нервно перелистываю партитуру. Не нахожу… И вот меня охватывает отчаянная решимость. Безграничным усилием беру себя в руки и дирижирую наизусть, в эту минуту поставив все на карту. Моя воля побеждает. Оркестр — в моих руках, и я веду его с увлечением, для меня до этого дня незнакомым. Рукоплескания наполняют зал. Экзамен был сдан блестяще. Во мне открыли новый талант», — рассказывал Жаров, уже будучи всемирно известным хормейстером.
После того триумфального выступления в «Хофбурге» хор начал гастролировать по всему миру, давая сотни концертов. Донские казаки пели перед королями и президентами, генералами и политиками, светской публикой и простыми людьми. Вот только в СССР хор ни разу не выступил, хотя это было заветной мечтой и самого Жарова, и певцов. Им очень хотелось снова побывать на Родине. Но этого так и не произошло…
После того триумфального выступления в «Хофбурге» хор начал гастролировать по всему миру, давая сотни концертов. Донские казаки пели перед королями и президентами, генералами и политиками, светской публикой и простыми людьми. Вот только в СССР хор ни разу не выступил, хотя это было заветной мечтой и самого Жарова, и певцов. Им очень хотелось снова побывать на Родине. Но этого так и не произошло…
«Как жалко мы выглядели в своих потрепанных, заплатанных… гимнастерках. Одни были в обмотках, другие — в сапогах. Вся горечь предыдущей страдальческой жизни трепетала в аккордах… так хор еще никогда не пел».
С.А. Жаров. Из воспоминаний
Современники вспоминают, что популярность хора была такова, что публика носила певцов на руках в прямом смысле слова: «с вокзала до гостиницы, оттуда на концерт, после концерта растаскивала хористов по гостям». Это был невероятный триумф русской музыки.
Личность Сергея Алексеевича Жарова была многогранной, широкой, как и его искусство. Со своими хористами он был строг, требователен. Солист хора Иван Ассур вспоминает: «Жаров словно гипнотизирует. Вы будете делать все, что он хочет. И нужно всегда на него смотреть — и на глаза, и на рот, и на руки, и на брови, потому что все это что-то означает. Он всегда говорил перед концертом: “Никакой отсебятины, я вам все покажу, смотреть на меня и все!” ... Интересно, что у Жарова, не как у иных регентов академично — раз, два, три… — он творил на сцене, и одна и та же вещь на разных концертах могла быть совершенно неповторимой по манере исполнения (в зависимости от того, как он в данное время эту вещь чувствовал)». Кстати, Жаров не знал иностранных языков. Всю жизнь он говорил только по-русски.
Личность Сергея Алексеевича Жарова была многогранной, широкой, как и его искусство. Со своими хористами он был строг, требователен. Солист хора Иван Ассур вспоминает: «Жаров словно гипнотизирует. Вы будете делать все, что он хочет. И нужно всегда на него смотреть — и на глаза, и на рот, и на руки, и на брови, потому что все это что-то означает. Он всегда говорил перед концертом: “Никакой отсебятины, я вам все покажу, смотреть на меня и все!” ... Интересно, что у Жарова, не как у иных регентов академично — раз, два, три… — он творил на сцене, и одна и та же вещь на разных концертах могла быть совершенно неповторимой по манере исполнения (в зависимости от того, как он в данное время эту вещь чувствовал)». Кстати, Жаров не знал иностранных языков. Всю жизнь он говорил только по-русски.
Хор Жарова активно гастролировал по странам Европы до 1939 года, когда началась Вторая мировая война. Пришлось вновь эмигрировать, на этот раз в США. Во время войны хор гастролировал в Мексике, на Кубе, в Южной и Центральной Америке. В Голливуде участники хора снялись в нескольких кинофильмах. Знаменитый импресарио Сол Юрок взял донских казаков под свое крыло, что помогало хору в организации выступлений и гастролей. Затем менеджером хора стала Клара Эбнер, а в 1960 году хор под опеку взял Отто Хофнер, добрый друг Сергея Жарова.
В 1945 году, после окончания военных действий, хор посетил Германию, где во Франкфурте-на-Майне выступил перед американскими военнослужащими, включая штаб генерала Д. Эйзенхауэра. В 1965 году коллектив отправился в турне по Японии. Певцы были первыми западными артистами, которым разрешили выступать перед императором Хирохито.
В 1945 году, после окончания военных действий, хор посетил Германию, где во Франкфурте-на-Майне выступил перед американскими военнослужащими, включая штаб генерала Д. Эйзенхауэра. В 1965 году коллектив отправился в турне по Японии. Певцы были первыми западными артистами, которым разрешили выступать перед императором Хирохито.
«В начале 1930-х годов журналист Емельян Клинский встретился с Жаровым, который в ту пору уже находился на вершине славы.
Е. Клинский. Вы пели в Метрополитене! Вы достигли наивысшего! Какая у вас теперь цель?
С. Жаров. Самая высокая! Может быть, недостижимая!
Е. Клинский. Я смотрю на Жарова. Я понимаю его без слов. Мы оба молчим. Наши мысли далеко, и, поборов волнение, я крепко жму его руку: “Я желаю вам, чтобы вы достигли этой цели!.. Чтобы хор ваш на нашей Родине, перед нашим народом, на русской сцене, забыв годы изгнания, спел “Верую”».
Е. Клинский. Вы пели в Метрополитене! Вы достигли наивысшего! Какая у вас теперь цель?
С. Жаров. Самая высокая! Может быть, недостижимая!
Е. Клинский. Я смотрю на Жарова. Я понимаю его без слов. Мы оба молчим. Наши мысли далеко, и, поборов волнение, я крепко жму его руку: “Я желаю вам, чтобы вы достигли этой цели!.. Чтобы хор ваш на нашей Родине, перед нашим народом, на русской сцене, забыв годы изгнания, спел “Верую”».
Е. Клинский. Из книги «Сергей Жаров и Донской казачий хор» (1931 г.)
Когда завершился последний тур с концертами по Америке, 20 марта 1981 года, Сергей Жаров передал Отто Хофнеру права на свой хор. Жаров выразил желание, чтобы Отто Хофнер организовал турне с выдающимся шведским певцом Николаем Геддой, имевшим русские корни, в качестве приглашенного солиста. Эти концерты имели большой успех.
Нужно более подробно рассказать об этом сюжете. Дело в том, что приемный отец Гедды, Михаил Устинов, некоторое время пел в хоре у Жарова, а потом был регентом в русском храме Св. Алексия, возведенном в память павших в Битве народов в Лейпциге. Гедде было шесть лет, когда он впервые услышал хор. Его потрясло это пение, и он всю жизнь мечтал выступать в его составе. Если гастроли хора проходили в том городе, где находился Гедда, он всегда посещал эти выступления.
За несколько лет до смерти Жарова его заслуги были отмечены: 17 октября 1981 года он был торжественно введен в Палату славы Конгресса русских американцев. Скончался хоровой атаман в октябре 1985 года в городе Лейквуде (штат Нью-Джерси).
Нужно более подробно рассказать об этом сюжете. Дело в том, что приемный отец Гедды, Михаил Устинов, некоторое время пел в хоре у Жарова, а потом был регентом в русском храме Св. Алексия, возведенном в память павших в Битве народов в Лейпциге. Гедде было шесть лет, когда он впервые услышал хор. Его потрясло это пение, и он всю жизнь мечтал выступать в его составе. Если гастроли хора проходили в том городе, где находился Гедда, он всегда посещал эти выступления.
За несколько лет до смерти Жарова его заслуги были отмечены: 17 октября 1981 года он был торжественно введен в Палату славы Конгресса русских американцев. Скончался хоровой атаман в октябре 1985 года в городе Лейквуде (штат Нью-Джерси).
К сожалению, ближайшие родственники Жарова не сумели оценить масштаб его таланта и раскрыть его значение для русской и мировой музыкальной культуры. После смерти «хорового атамана» дом, в котором хранился его бесценный архив, долгое время пустовал, затем был ограблен. Архив Жарова и его личные вещи оказались в частных руках и пока недоступны исследователям.
Но хор не погиб! Он продолжает свою деятельность и дает концерты на крупнейших мировых сценах. В современной России о хоре донских казаков под управлением Жарова знает все больше людей, выходят публикации, воспоминания, компакт-диски с записями хора. А это значит, что выдающееся явление русской музыкальной культуры XX века постепенно возвращается на Родину, о чем мечтал его создатель — Сергей Жаров.
Но хор не погиб! Он продолжает свою деятельность и дает концерты на крупнейших мировых сценах. В современной России о хоре донских казаков под управлением Жарова знает все больше людей, выходят публикации, воспоминания, компакт-диски с записями хора. А это значит, что выдающееся явление русской музыкальной культуры XX века постепенно возвращается на Родину, о чем мечтал его создатель — Сергей Жаров.
Екатерина Акишина
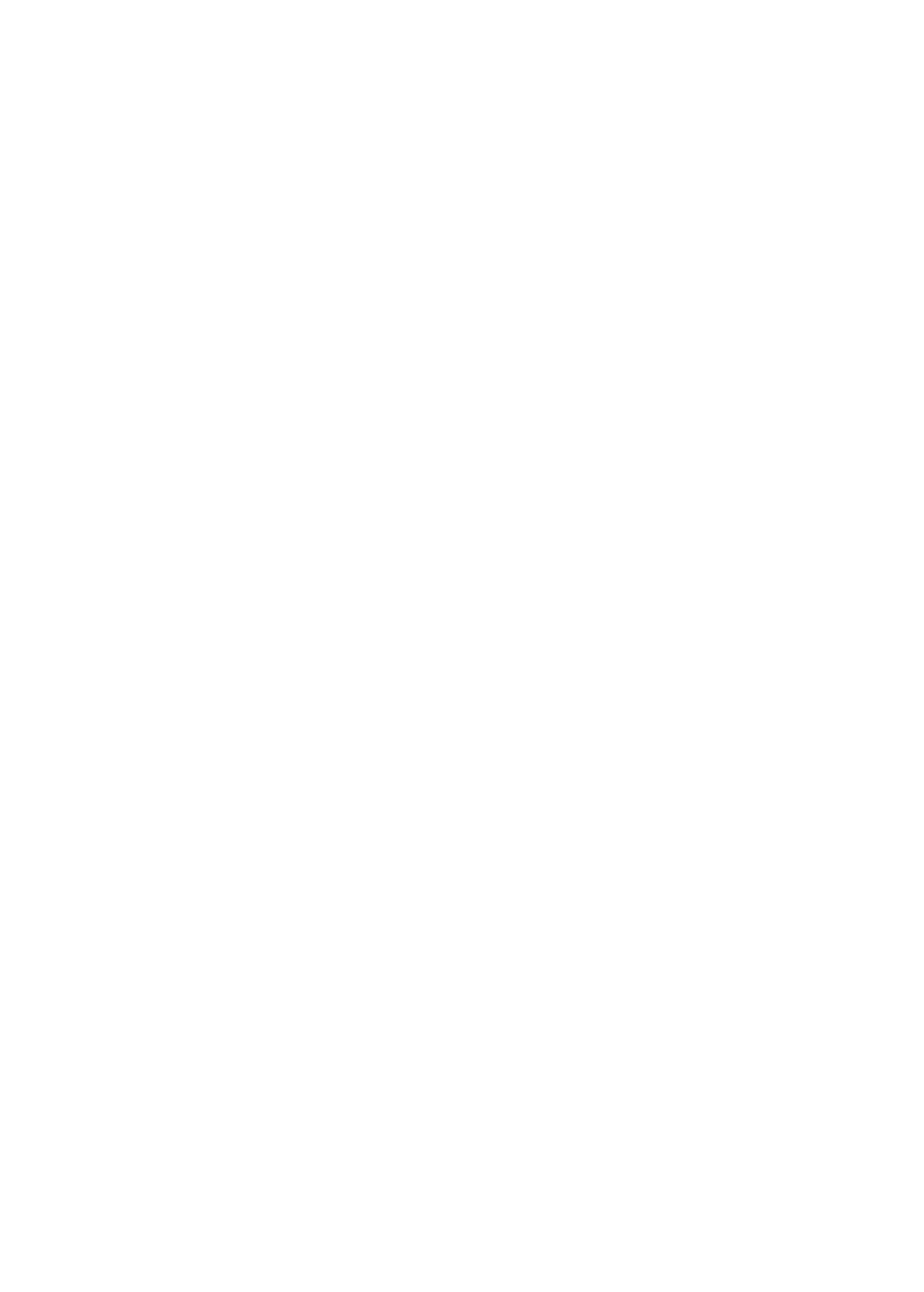
Прибытие лайнера «Лузитания» в порт Нью-Йорка
17 октября 1981 года Сергей Жаров был торжественно введен в Палату славы Конгресса русских американцев