«И сами вы писали мемуары…»
Князь
Сергей Михайлович Волконский
(1860–1937)
Сергей Михайлович Волконский
(1860–1937)
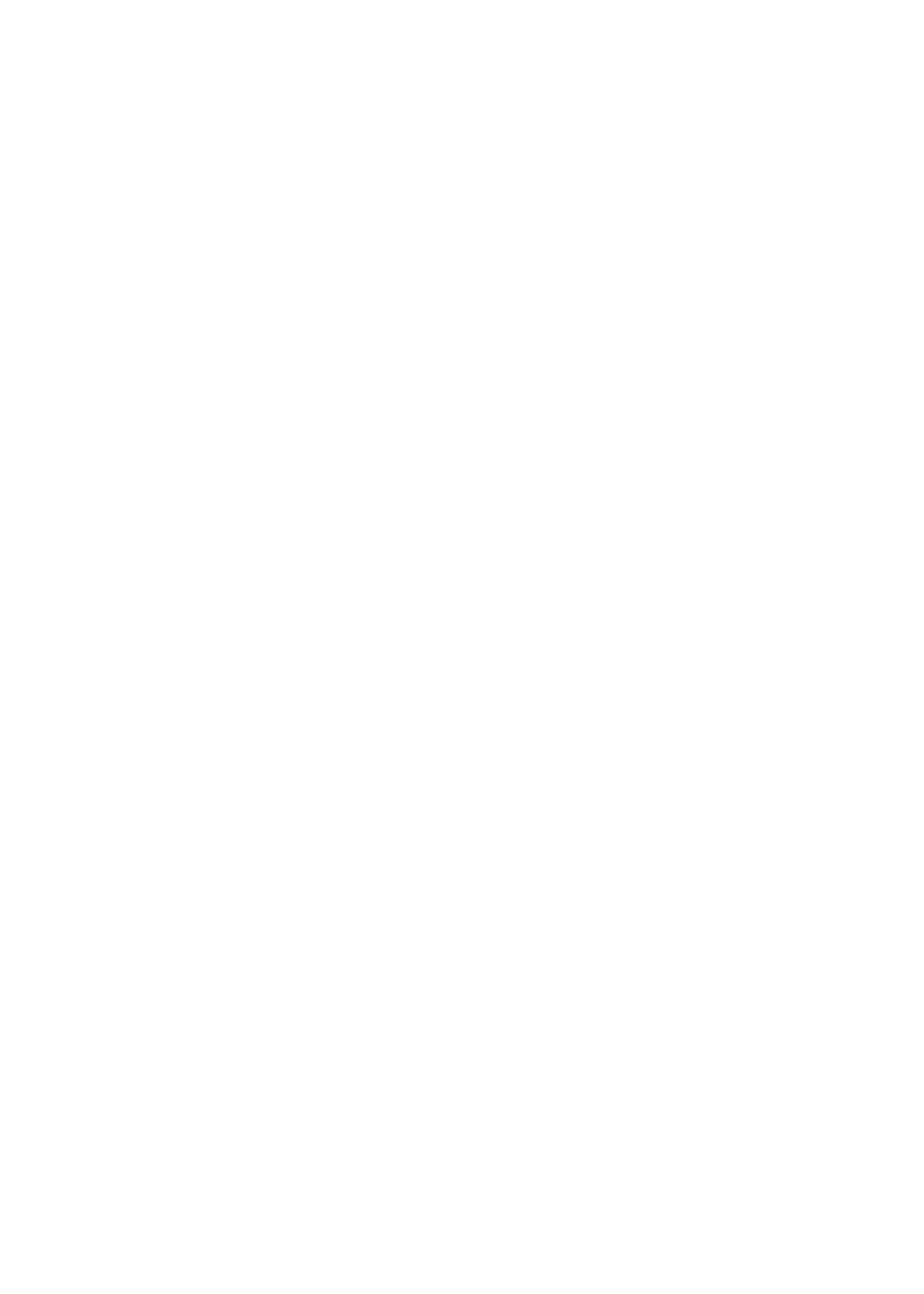
В шаге от новой формы
Пребывание князя Сергея Волконского на посту директора Императорских театров длилось недолго. Но именно в период его деятельности наметились глобальные перемены в русском театре
Пребывание князя Сергея Волконского на посту директора Императорских театров длилось недолго. Но именно в период его деятельности наметились глобальные перемены в русском театре
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
4 (16) мая 1860 г. — родился на мызе Фалль
(Эстляндская губерния)
1899–1901 гг. — служил директором Императорских театров
Декабрь 1910 г. — встретился в Дрездене с Э. Жак-Далькрозом, швейцарским композитором и педагогом, создателем системы музыкально-ритмического воспитания
Май 1918 г. — открытие выставки «Декабристы — первые борцы за свободу» в Борисоглебске
Декабрь 1921 г. — «исход» из Советской России
1923 г. — опубликовал в Берлине три тома «Воспоминаний»
25 октября 1937 г. — скончался в Хот-Спрингсе, штат Вирджиния, США
4 (16) мая 1860 г. — родился на мызе Фалль
(Эстляндская губерния)
1899–1901 гг. — служил директором Императорских театров
Декабрь 1910 г. — встретился в Дрездене с Э. Жак-Далькрозом, швейцарским композитором и педагогом, создателем системы музыкально-ритмического воспитания
Май 1918 г. — открытие выставки «Декабристы — первые борцы за свободу» в Борисоглебске
Декабрь 1921 г. — «исход» из Советской России
1923 г. — опубликовал в Берлине три тома «Воспоминаний»
25 октября 1937 г. — скончался в Хот-Спрингсе, штат Вирджиния, США
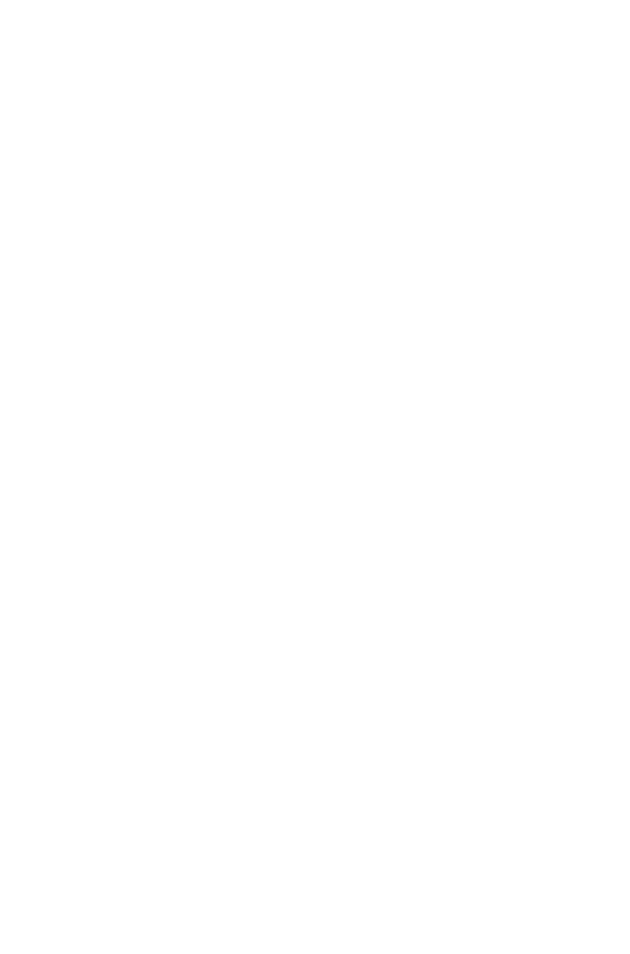
С.М. Волконский. 1897 г.
В заголовке этого очерка — строка из стихотворения барона Николая Врангеля, видного историка искусства эпохи Серебряного века и младшего брата «того самого» Врангеля, помещенная на первой странице его книги статей «Венок мертвым», вышедшей в Петербурге в 1913 году и подаренной князю Сергею Волконскому.
Барон Николай Николаевич Врангель, «потомок негров безобразный», прапраправнук А.П. Ганнибала, был прекрасно осведомлен о блистательных предках своего старшего друга: героях Отечественной войны 1812 года — генерале Н.Н. Раевском, светлейшем князе П.М. Волконском, декабристе князе
С. Г. Волконском, графе А. Х. Бенкендорфе…
Барон Николай Николаевич Врангель, «потомок негров безобразный», прапраправнук А.П. Ганнибала, был прекрасно осведомлен о блистательных предках своего старшего друга: героях Отечественной войны 1812 года — генерале Н.Н. Раевском, светлейшем князе П.М. Волконском, декабристе князе
С. Г. Волконском, графе А. Х. Бенкендорфе…
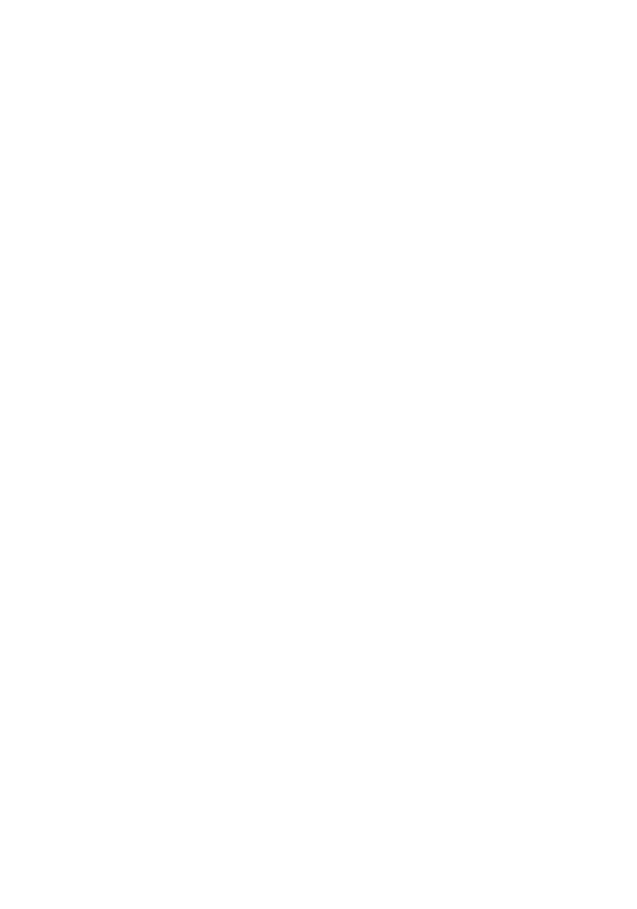
С.А. Сорин. Портрет князя С.М. Волконского. 1915 г.
На мызе Фалль, под Ревелем, устроенной трудами его прадеда графа А.Х. Бенкендорфа, князь Сергей Михайлович Волконский, потомок 28-го колена от легендарного Рюрика, родился 4 (16) мая 1860 года. «О дивном месте своего рожденья» не единожды упомянет он впоследствии в мемуарах: «Мне три года. На ступенях каменного крыльца старая старушка англичанка: мисс Смит, гувернантка моих теток, двоюродных сестер матери, показывает мне, как пальцы складывать, чтобы выходил домик; указательный опускается и образует прилавок, мизинец — лавочник, и два больших пальца — покупатели… В низком кабинете, во флигеле, в глубоком кресле старец с белой бородой, в черном бархатном халате курит длинную трубку: мой дед декабрист…» С ностальгией он будет вспоминать и о Павловке, имении князей Волконских близ уездного Борисоглебска Тамбовской губернии. Именно там, в Борисоглебском уезде, начнет он «служить по обществу» по окончании в 1884 году историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета — почетным мировым судьей, гласным борисоглебского уездного земства…
«Когда забирали у меня в доме бумаги, то документы, относящиеся к декабристам, тоже приложили к “делу”. Им говорят, что ведь это историческое, что это про декабристов; один отвечает: “Да, я знаю, у меня в Вильне товарищ декабрист”. Все это было унесено… Когда попался в руки алфавитный список собственных имён, встречающихся в сибирских письмах моей бабушки за годы от 1827-го до 1855-го, было произнесено: “Ведь, вот, сколько имен, а ни у кого из них еще не было обыска”…»
Князь С. М. Волконский.
«Мои воспоминания» (1923 г.)
В качестве члена училищного совета он инспектировал сельские школы Борисоглебского уезда. «Что за прелестные бывали экземпляры среди этих детей! — вспоминал Сергей Михайлович. — Какая радость знания, какая радость в оказании своего знания. Никогда не забуду одного мальчика в селе Криуши; как он решал изустную задачу. Он не то что сам решал, а как будто вам объяснял, как вам бы следовало ее решать. “Сносим три, а пять в уме; три и четыре — семь, а там ведь у нас пять оставалось, значит, двенадцать; сносим два, а единица у нас в уме останется…” И какие интонации! В каждой цифре слышалось: “Не правда ли?” Или: “Ведь вы помните?” О да… Что за материал крестьянские дети; а что из него потом выходило!..»
Летом 1893 года князь Сергей в качестве комиссара от Министерства народного просвещения отправился на Всемирную выставку в Чикаго, выступил и на Конгрессе религий, проходившем в рамках этой выставки. В Америку он поедет и в начале 1896 года — по приглашению Лоуэльского института в Бостоне для чтения курса лекций по русской истории и русской словесности.
Летом 1893 года князь Сергей в качестве комиссара от Министерства народного просвещения отправился на Всемирную выставку в Чикаго, выступил и на Конгрессе религий, проходившем в рамках этой выставки. В Америку он поедет и в начале 1896 года — по приглашению Лоуэльского института в Бостоне для чтения курса лекций по русской истории и русской словесности.
После одного из таких лекционных курсов князя Волконского в Гарвардском университете была
основана кафедра славянских наречий. Изданные в том же году в России отдельной книгой «публичные лекции, читанные в Америке», удостоились обстоятельной рецензии философа Владимира Соловьева: «Известный нашим читателям князь С.М. Волконский с большим успехом исполнил в Америке интересную задачу: показать Россию лицом. Это человеческое лицо американцам было мало знакомо — и тем более интересно…»
В июле 1899 года император Николай II назначил князя С.М. Волконского на пост директора Императорских театров. «Театрально образованный лучше, чем все его предшественники, — вспоминал драматург и переводчик П.П. Гнедич, — князь мечтал о Софокле и Еврипиде, о Шекспире и Лопе де Вега, а его встретил репертуар из десятка пьес Островского, пьес Модеста Чайковского, Невежина, Маркевича, Николаева. Он рисовал себе репертуар компактный, сжатый, а было до сотни пьес, и, в сущности, ни одна не была поставлена строго художественно…»
основана кафедра славянских наречий. Изданные в том же году в России отдельной книгой «публичные лекции, читанные в Америке», удостоились обстоятельной рецензии философа Владимира Соловьева: «Известный нашим читателям князь С.М. Волконский с большим успехом исполнил в Америке интересную задачу: показать Россию лицом. Это человеческое лицо американцам было мало знакомо — и тем более интересно…»
В июле 1899 года император Николай II назначил князя С.М. Волконского на пост директора Императорских театров. «Театрально образованный лучше, чем все его предшественники, — вспоминал драматург и переводчик П.П. Гнедич, — князь мечтал о Софокле и Еврипиде, о Шекспире и Лопе де Вега, а его встретил репертуар из десятка пьес Островского, пьес Модеста Чайковского, Невежина, Маркевича, Николаева. Он рисовал себе репертуар компактный, сжатый, а было до сотни пьес, и, в сущности, ни одна не была поставлена строго художественно…»
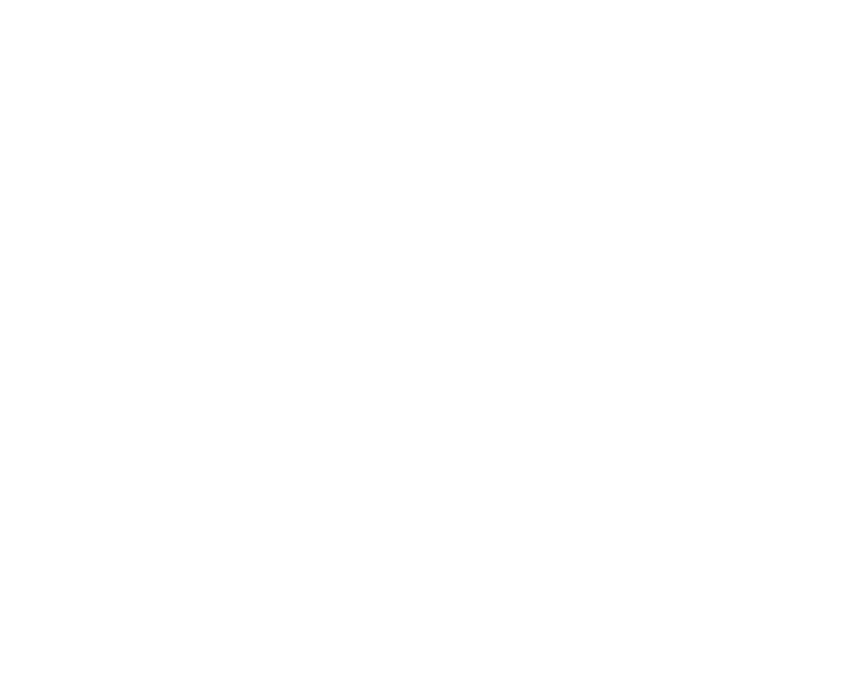
Князь С.М. Волконский (справа) на Чикагской выставке. 1893 г.
«Молодой Волконский» взял курс на обновление репертуара: на сцене Александринского театра были поставлены «Отелло», «Гамлет», «Эрнани», на сцене Мариинского театра — оперы Р. Вагнера «Тристан и Изольда» и «Валькирия». К работе на императорской сцене были привлечены художники из объединения «Мир искусства»: А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, К.А. Сомов, В.А. Серов и др. В состав Дирекции в качестве чиновника особых поручений был введен будущий организатор «Русских сезонов» С.П. Дягилев, некоторое время редактировавший «Ежегодник Императорских театров». А весной 1901 года князь подал в отставку из-за конфликта с балериной Матильдой Кшесинской.
«Этот небольшой труд был задуман и начат, как дань сыновнего уважения к священной памяти о тех, кто, пройдя юдоль земных печалей, отошли в лучший мир, оставив по себе высокий образ страдания, терпения и смирения. Это дань духовной красоте. …Эта книга — требование справедливости».
Князь С.М. Волконский. «О декабристах».
По семейным воспоминаниям. Париж.
10 октября 1921 года
В последующие годы князь Сергей Волконский, занявшись разработкой интересовавших его вопросов театрального искусства, жил то у себя в Павловке, то в Фалле у своей родни, то в Петербурге, то уезжал за границу — к отцу, который «уже не выносил петербургского климата и поселился в Риме».
В декабре 1910 года Сергей Михайлович в Дрездене познакомился с Э. Жак-Далькрозом, создателем системы музыкально-ритмического воспитания. Метод ритмической гимнастики швейцарца захватил князя:
«Я понял, что ритмическое воспитание развивает всего человека, все способности его и что оно должно, когда войдет в обиход воспитательный, облагодетельствовать человечество». Как раз тогда он близко сошелся с бароном Николаем Врангелем, соредактором журнала «Аполлон», на страницах которого начали появляться статьи Волконского, «русского адепта Далькроза в России», а в одноименном издательстве — его книги «Человек на сцене» и «Разговоры».
В декабре 1910 года Сергей Михайлович в Дрездене познакомился с Э. Жак-Далькрозом, создателем системы музыкально-ритмического воспитания. Метод ритмической гимнастики швейцарца захватил князя:
«Я понял, что ритмическое воспитание развивает всего человека, все способности его и что оно должно, когда войдет в обиход воспитательный, облагодетельствовать человечество». Как раз тогда он близко сошелся с бароном Николаем Врангелем, соредактором журнала «Аполлон», на страницах которого начали появляться статьи Волконского, «русского адепта Далькроза в России», а в одноименном издательстве — его книги «Человек на сцене» и «Разговоры».
«Среди тогдашнего апофеоза беззаботности я думал: что скажет бдительность, когда народу надоест кричать “ура”, и что сделает этот народ, когда перестанет его тешить “зрелище”?»
Князь С.М. Волконский.
«Мои воспоминания» (1923 г.)
В знаменитой «Бродячей собаке», в «заволоченном табачным дымом» подвале, не сразу разглядел князя Сергея поэт Георгий Иванов: «Князь С. М. Волконский, не стесняясь временем и местом, с жаром излагает принципы Жака Далькроза. Барон Н.Н. Врангель, то вкидывая в глаз, то роняя (с поразительной ловкостью) свой монокль, явно не слушает птичьей болтовни своей спутницы, знаменитой Паллады Богдановой-Бельской, закутанной в какие-то фантастические шелка и перья…»
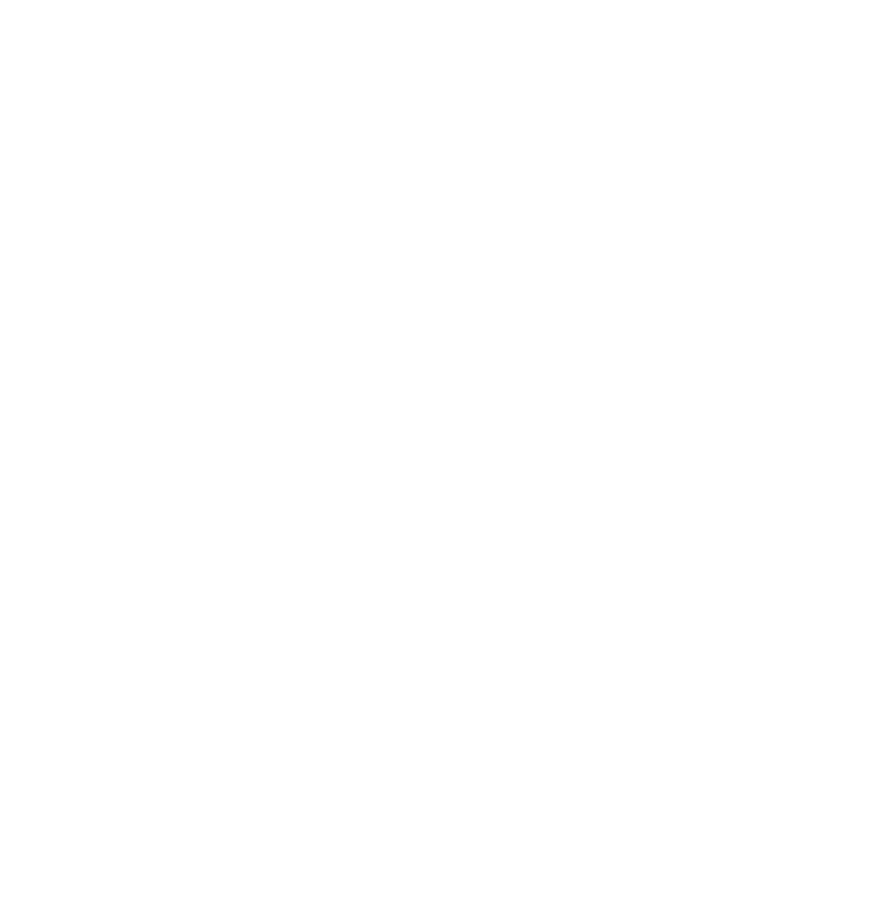
Герб рода князей Волконских
По совету «милого друга» Сергей Михайлович увлекся работой по подготовке к изданию «Архива декабриста С. Г. Волконского» и устройством в Павловке Музея декабристов. Первая мировая вой на внесла существенные коррективы в планы князя: он устраивает лазарет для раненых в Борисоглебске, хлопочет о постановке аллегорической пантомимы «1914» на сцене Мариинского театра в Петрограде… Но Музей декабристов все же превращается из замысла в реальность. «Вы еще не знаете, — сообщал Сергей Михайлович в письме, адресованном в июне 1916 года Б. Л. Модзалевскому, — что я кончил развеску в “Сибирском коридоре”. Вышло замечательно, богатство материала поразительное и то еще не все…»
Экскурсии по «Сибирскому коридору», похоже, проводились только в мемуарах: «Тут воспоминания о декабристах: портреты, виды, документы, вещи, бывшие в Сибири. …Повесть страдания и терпения, высоты и смирения… Как мало кто знает это. Как мало вообще у нас
интересуются. Ни разу ни одна школа из города не подумала совершить экскурсию. …Нет, несчастных детей водили в июле месяце смотреть железнодорожные мастерские!.. А все классовая рознь, через которую не умеют люди душой перешагнуть…»
Экскурсии по «Сибирскому коридору», похоже, проводились только в мемуарах: «Тут воспоминания о декабристах: портреты, виды, документы, вещи, бывшие в Сибири. …Повесть страдания и терпения, высоты и смирения… Как мало кто знает это. Как мало вообще у нас
интересуются. Ни разу ни одна школа из города не подумала совершить экскурсию. …Нет, несчастных детей водили в июле месяце смотреть железнодорожные мастерские!.. А все классовая рознь, через которую не умеют люди душой перешагнуть…»
В Павловке бывший директор Императорских театров узнал об отречении Николая II. Осенью 1917 года, когда газеты запестрели сообщениями об «аграрных беспорядках» в Тамбовской губернии, князь Сергей Волконский переехал в собственный дом в Борисоглебске, куда был перевезен семейный архив и фамильные вещи из Павловки.
Между тем атмосфера в Борисоглебске с установлением 30 января 1918 года советской власти все более накалялась: аресты, расстрелы, обыски… В такой обстановке Сергей Михайловича устраивал благотворительные спектакли, читал лекции, после одной из которых возникла мысль устроить в Народном доме выставку, посвященную декабристам. Экспозиция, открывшаяся 6 мая 1918 года, «в двух больших залах и двух маленьких комнатах» Народного дома, состояла из 182 экспонатов. «Был страх, конечно, — вспоминал князь Сергей Михайлович, — за некоторые портреты, — как на них посмотрят представители власти, если заглянут. Но не заглянули…»
Между тем атмосфера в Борисоглебске с установлением 30 января 1918 года советской власти все более накалялась: аресты, расстрелы, обыски… В такой обстановке Сергей Михайловича устраивал благотворительные спектакли, читал лекции, после одной из которых возникла мысль устроить в Народном доме выставку, посвященную декабристам. Экспозиция, открывшаяся 6 мая 1918 года, «в двух больших залах и двух маленьких комнатах» Народного дома, состояла из 182 экспонатов. «Был страх, конечно, — вспоминал князь Сергей Михайлович, — за некоторые портреты, — как на них посмотрят представители власти, если заглянут. Но не заглянули…»
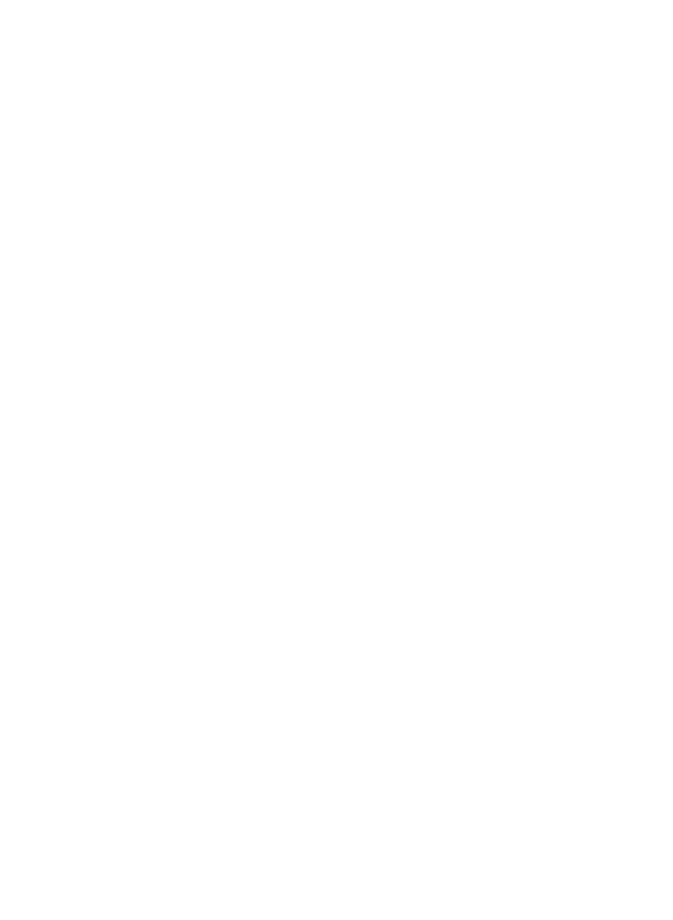
Обложка каталога «Выставка декабристов — первых борцов за свободу». Борисоглебск. Апрель 1918 г.
Преемники «первых борцов за свободу» нагрянули в дом Волконского, когда внук декабриста по счастливой случайности находился в гостях. «Убрать с такою любовью собранную выставку мне уже не пришлось — писал Сергей Михайлович, — в солдатской шинели, с котомкой платья и белья, в пять часов утра, пешком я должен был покинуть родной город…»
Осенью 1918 года князь добрался до Москвы, где занялся преподавательской деятельностью: читал лекции о законах речи, вел занятия по ритмике и мимике в различных театральных студиях — в Институте слова, Пролеткульте, в Государственном институте музыкальной драмы, на Драматических курсах при Малом театре, в театре Габима, в Московской филармонии, студии Тонплассо, «Драмбалет» и т.д.
В московской коммуналке в промежутках между беготней по студиям, болезнью, обысками, арестом в августе 1919 года он писал «по памяти», «по разговорам» воспоминания…
Осенью 1918 года князь добрался до Москвы, где занялся преподавательской деятельностью: читал лекции о законах речи, вел занятия по ритмике и мимике в различных театральных студиях — в Институте слова, Пролеткульте, в Государственном институте музыкальной драмы, на Драматических курсах при Малом театре, в театре Габима, в Московской филармонии, студии Тонплассо, «Драмбалет» и т.д.
В московской коммуналке в промежутках между беготней по студиям, болезнью, обысками, арестом в августе 1919 года он писал «по памяти», «по разговорам» воспоминания…
«Я среди бела дня встречаю Волконского… Но Боже! В каком виде! В ночных башмаках, чуть ли не на босу ногу, в не совсем опрятной толстовке и без шляпы. Восклицания радости, объятия, и сразу завязывается беседа тут же, на уцелевшей скамейке бульвара. Невольно, при виде такой печальной картины, я беру тон известного “соболезнования”, но князь перебивает меня, и я слышу вещи самые неожиданные: “Что вы? Я никогда не был так счастлив, как теперь! Я, наконец, могу весь отдаться своему делу, а остальное для меня не существует”. Оказалось, что он преподает в какой-то школе пластику и дикцию, и что у него превосходные, необычно понятливые ученики…»
А.Н. Бенуа. «Воспоминания о князе С.М. Волконском» (1937 г.)
В 1920 году в Вахтанговской студии Волконский знакомится с Мариной Цветаевой. Эта встреча-дружество была, несомненно, знаковой и для князя Сергея, и для поэта. Вот одна из дневниковых записей весны 1921 года Цветаевой: «Знаете ли Вы, что и моя земная жизнь Вами перевернута? Все, с кем раньше дружила, — отпали. Вами кончено несколько дружб. (За полнейшей заполненностью и ненадобностью.) …У меня есть друг: Ваша мысль…» А князь Волконский в посвященной Марине Цветаевой книге «Быт и бытие» впоследствии напишет: «А помните наши вечера, наш гадкий, но милый на керосинке “кофе”, наши чтения, наши писания, беседы? Вы читали мне стихи из Ваших будущих сборников. Вы переписывали мои “Странствия” и “Лавры”…Как много было силы в нашей неподатливости, как много в непреклонности награды! Вот это было наше бытие. Вы не забыли, как Вы жили? В Борисоглебском переулке. Ведь нужно же было, чтобы “Ваш” переулок носил имя “моего” уездного города!»
Осенью 1921 года князь Волконский перебрался в Петроград, где, отчаявшись получить документ на легальный выезд, «решил бежать каким угодно способом». Так в конце 1921 года внук декабриста «с чужим паспортом, под видом эстонца» навсегда покинул Россию… Следом за ним через границу — также нелегально — «добрые люди» переправили его рукописи: «декабристское» сочинение и «двадцать шесть глав» воспоминаний.
За границей князь Сергей Михайлович Волконский поначалу жил в Италии, где были дописаны «Мои воспоминания». Двухтомная трилогия («Лавры», «Странствия», «Родина») вышла в 1923 году в берлинском «Медном всаднике». Там же появились «Быт и бытие. Из прошлого, настоящего, вечного» (1924), а годом позже — «Последний день. Роман-хроника».
За границей князь Сергей Михайлович Волконский поначалу жил в Италии, где были дописаны «Мои воспоминания». Двухтомная трилогия («Лавры», «Странствия», «Родина») вышла в 1923 году в берлинском «Медном всаднике». Там же появились «Быт и бытие. Из прошлого, настоящего, вечного» (1924), а годом позже — «Последний день. Роман-хроника».
«В послереволюционное время искусство сценической речи преподавал нам в МХТ Сергей Михайлович Волконский. Он был удивительно похож на Дон-Кихота: всегда в одном и том же спортивном костюме, в обмотках защитного цвета, плотно охватывающих его неимоверно тонкие ноги. Носил усы, стоявшие торчком, как у ламанчского идальго. Над усами, для довершения этого сходства, высился длинный сухой нос. Еще одна деталь: в правом верхнем кармане своей охотничьей куртки Волконский носил несколько аккуратно нарезанных прямоугольников газетной бумаги — других носовых платков в те годы он не признавал…»
С. Бирман, актриса (1959 г.)
С 1925 года князь обосновался во Франции, став одной из ярких фигур русского зарубежья. Он вел театральный отдел в милюковских «Последних новостях», печатался в журналах «Звено», «Перезвон», «Современные записки», преподавал декламацию в Русской консерватории, ритмику и мимику в балетных школах и студиях, выступал с лекциями по русской истории и литературе.
Последняя статья князя Сергея Волконского в «Последних новостях» — письмо из Лондона о постановке тургеневского «Месяца в деревне» в Вестминстерском театре — вышла 24 октября 1936 года.
Последняя статья князя Сергея Волконского в «Последних новостях» — письмо из Лондона о постановке тургеневского «Месяца в деревне» в Вестминстерском театре — вышла 24 октября 1936 года.
В той же газете 28 октября 1937 года на первой странице была опубликована небольшая заметка: «Скончался кн. С. М. Волконский. Нью-Йорк, 27 октября. 25 октября в Ричмонде (шт. Вирджиния) тихо скончался князь Сергей Волконский, известный театральный деятель и критик, быв. директор Императорских театров. Скончался кн. С.М. Волконский на 78 году».
30 октября в Париже, в русской католической церкви Св. Троицы, была отслужена панихида.
В «автобиографии» Нины Берберовой «Курсив мой» читаем: «М.И. Цветаеву я видела в последний раз на похоронах (или это была панихида?) кн. С.М. Волконского 31 октября 1937 года. После службы в церкви на улице Франсуа-Жерар (Волконский был католик восточного обряда) я вышла на улицу. Цветаева стояла на тротуаре одна и смотрела на нас полными слез глазами, постаревшая, почти седая, простоволосая, сложив руки у груди…»
30 октября в Париже, в русской католической церкви Св. Троицы, была отслужена панихида.
В «автобиографии» Нины Берберовой «Курсив мой» читаем: «М.И. Цветаеву я видела в последний раз на похоронах (или это была панихида?) кн. С.М. Волконского 31 октября 1937 года. После службы в церкви на улице Франсуа-Жерар (Волконский был католик восточного обряда) я вышла на улицу. Цветаева стояла на тротуаре одна и смотрела на нас полными слез глазами, постаревшая, почти седая, простоволосая, сложив руки у груди…»
Аркадий Мурашев
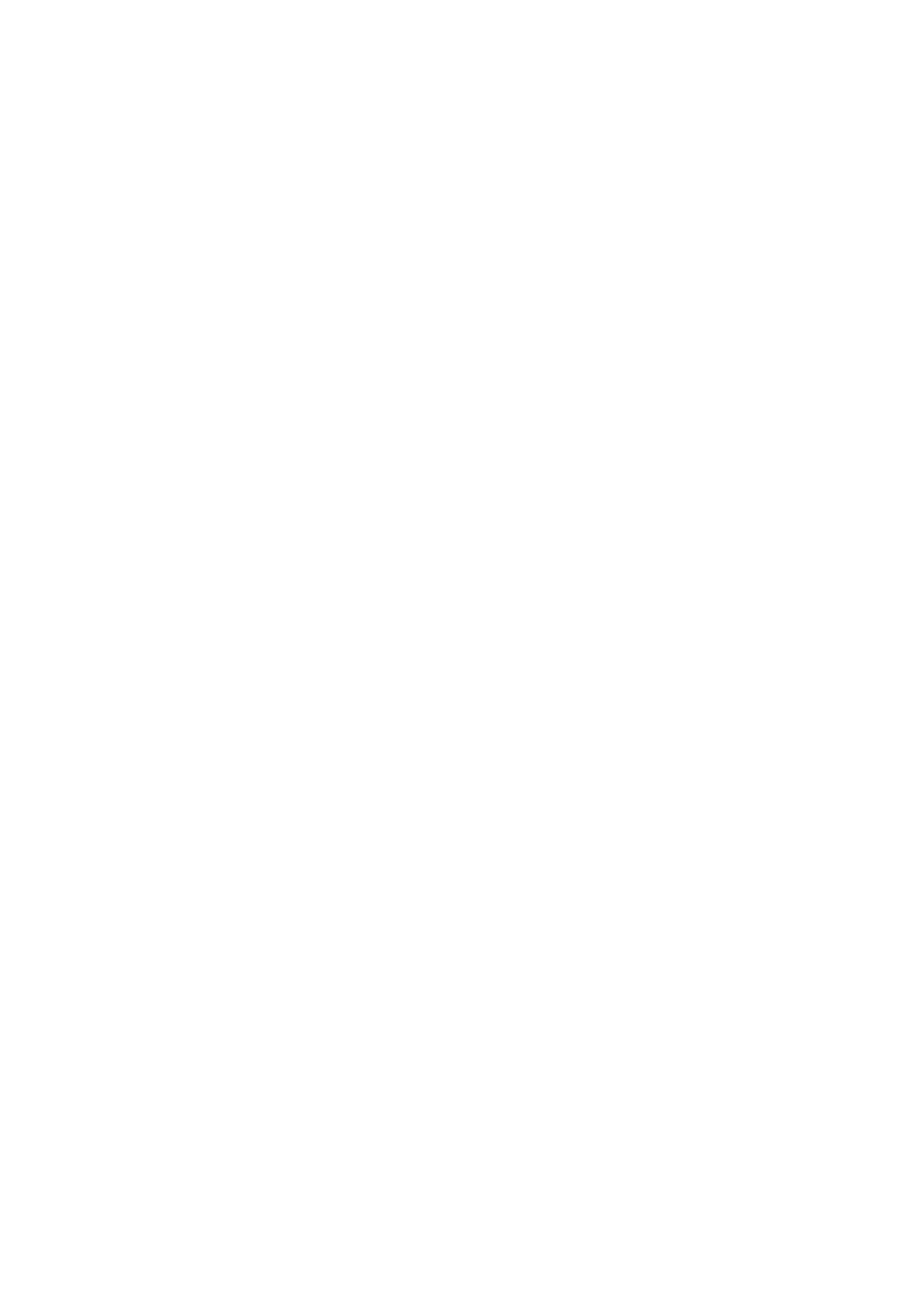
Речная прогулка по Сене
В Париже князь Сергей Волконский прожил больше 10 лет. Он был видной фигурой русского зарубежья, читал лекции, печатался в периодических изданиях