Опаленный большевизмом
Николай Васильевич Устрялов
(1890–1937)
(1890–1937)
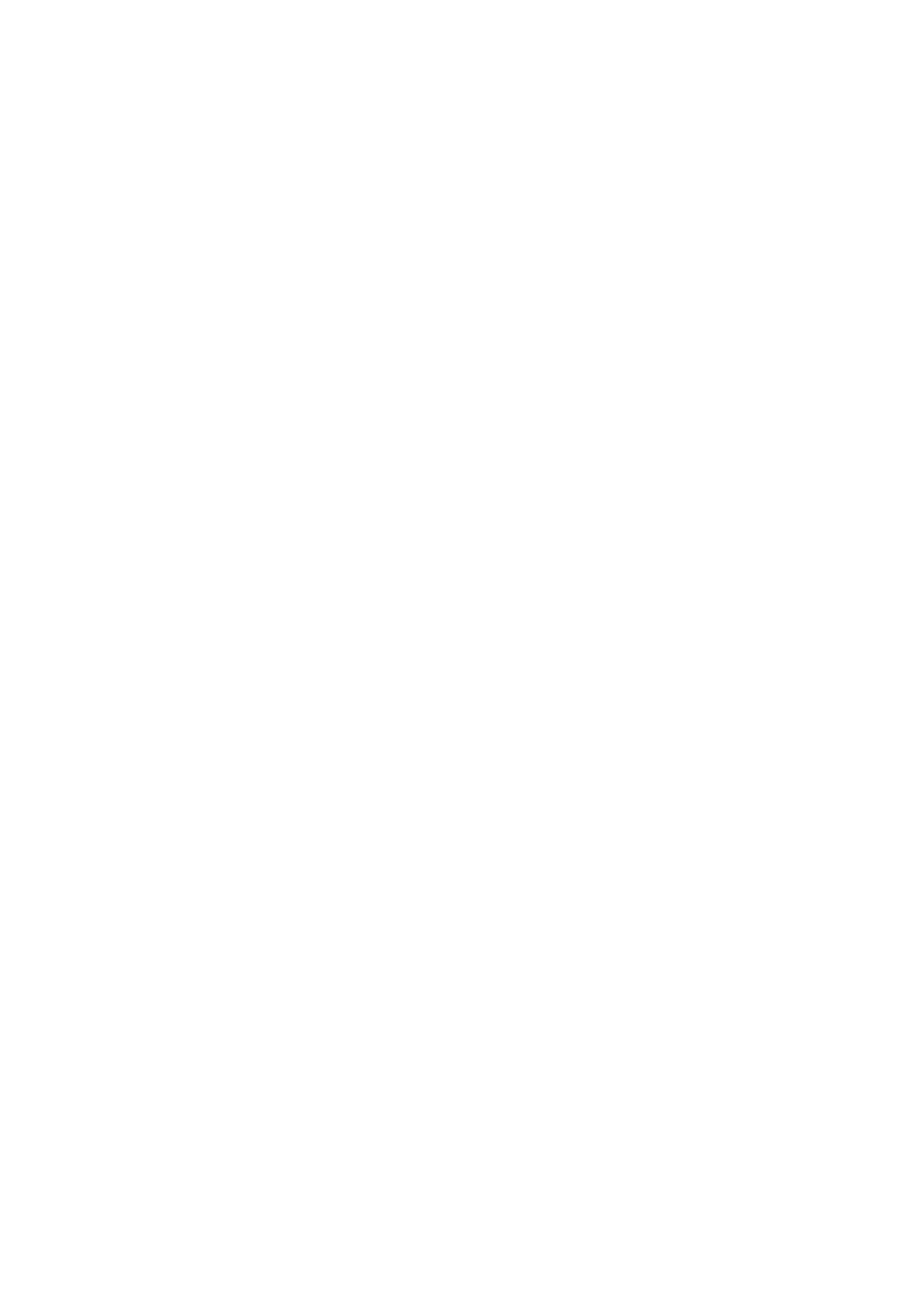
Крушение экспресса
Жизнь Н.В. Устрялова в годы Гражданской войны была связана с переездами по железной дороге. В эмиграции его судьба связана с КВЖД. Летом 1925 года Сибирский экспресс, на котором ехал Устрялов, потерпел крушение. Мыслитель остался жив, изложив свои впечатления в статье «Крушение в тайге»
Жизнь Н.В. Устрялова в годы Гражданской войны была связана с переездами по железной дороге. В эмиграции его судьба связана с КВЖД. Летом 1925 года Сибирский экспресс, на котором ехал Устрялов, потерпел крушение. Мыслитель остался жив, изложив свои впечатления в статье «Крушение в тайге»
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
25 ноября (7 декабря) 1890 г. — родился в Санкт-Петербурге
1908–1913 гг. — учился на юридическом факультете Московского университета
1919 г. — служил на многих должностях в правительстве А.В. Колчака
1921 г. — участвовал в сборнике «Смена вех»
1920–1934 г. — читал лекции на юридическом факультете Харбинского университета
1925 г. — получил советский паспорт
2 июня 1935 г. — вернулся с семьей в СССР
6 июня 1937 г. — арестован НКВД
14 сентября 1937 г. — военной коллегией Верховного суда СССР осужден к расстрелу с конфискацией имущества, в тот же день расстрелян
20 сентября 1989 г. — реабилитирован
25 ноября (7 декабря) 1890 г. — родился в Санкт-Петербурге
1908–1913 гг. — учился на юридическом факультете Московского университета
1919 г. — служил на многих должностях в правительстве А.В. Колчака
1921 г. — участвовал в сборнике «Смена вех»
1920–1934 г. — читал лекции на юридическом факультете Харбинского университета
1925 г. — получил советский паспорт
2 июня 1935 г. — вернулся с семьей в СССР
6 июня 1937 г. — арестован НКВД
14 сентября 1937 г. — военной коллегией Верховного суда СССР осужден к расстрелу с конфискацией имущества, в тот же день расстрелян
20 сентября 1989 г. — реабилитирован
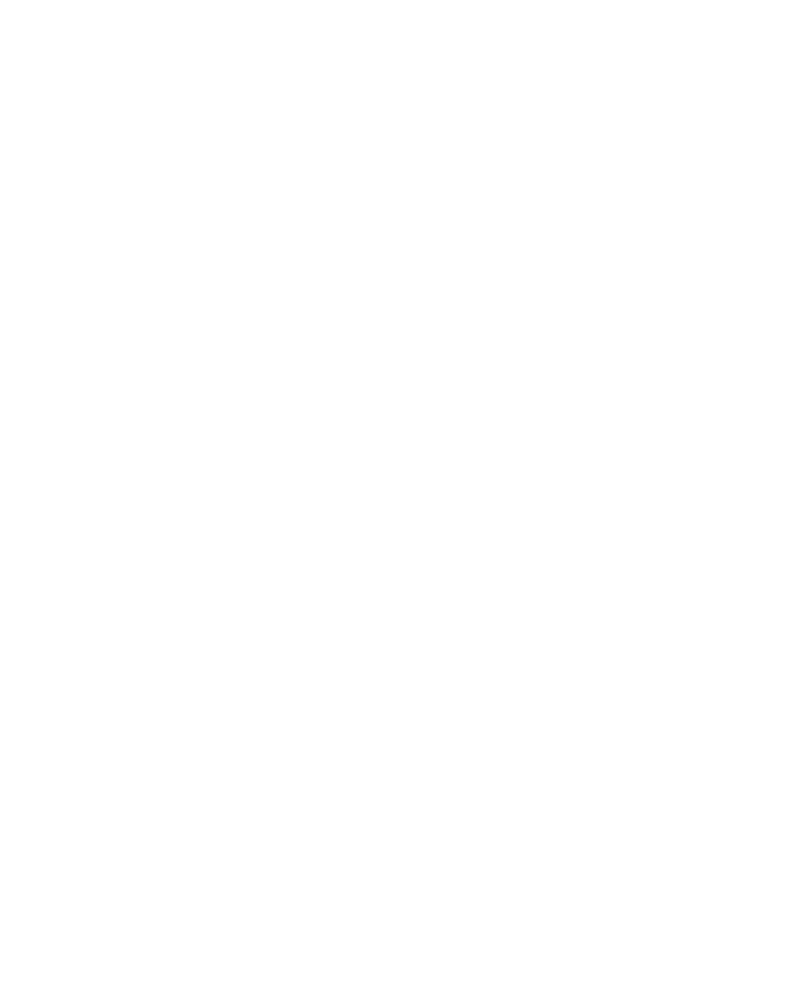
Н.В. Устрялов. 1930-е гг.
Писатели и поэты в своих произведениях иногда способны «предвидеть» свою судьбу. Подобное случается и с публицистами. Предсказание Николая Устрялова содержалось в его письме от 22 апреля 1935 года к единомышленнику Г.Н. Дикому: «Разумеется, было бы наивно ожидать или требовать полного доверия к себе со стороны вождей советского государства… Государство ныне строится, как в годы Петра (Петр I. — А.Р.), суровыми и жесткими методами, подчас на костях и слезах. В своей публицистике я осознавал этот процесс, уясняя его смысл, и неоднократно призывал понять и оправдать его. Тем настоятельнее необходимость сделать из этих ответственных призывов не только логический, но, когда нужно, и жизненный вывод. Ежели государству понадобятся и мои собственные “кости”, — что же делать, нельзя ему в них отказывать».
Предки Николая Васильевича Устрялова были людьми, служившими российскому государству и отечественной науке. Его отец, Василий Иванович, окончив в Киеве медицинский факультет Императорского университета Св. Владимира, сочетался браком с дочерью калужского купца. Сначала супруги жили в Петербурге, где у них 25 ноября (7 декабря) 1890 года родился сын Николай, а через пару лет появился на свет его брат Михаил. В 1900 году семья переехала в Калугу.
Подростками Николай и Михаил выпускали домашний рукописный журнал «Любитель», где помещали и свои заметки. Николаю были интересно оттачивать свое перо. В 1901–1908 годах он учился в калужской Николаевской классической гимназии, которую окончил с серебряной медалью и поступил на юридический факультет Московского университета. Он испытал влияние профессора Е.Н. Трубецкого; встречался с выдающимися мыслителями и учеными той эпохи Б.П. Вышеславцевым, С.А. Котляревским, П.И. Новгородцевым, С.Н. Булгаковым, Н.А. Бердяевым, И.А. Ильиным, П.А. Флоренским, Н.О. Лосским, А.А. Кизеветтером. В работах Устрялова можно усмотреть влияние славянофилов, К.Н. Леонтьева и Ф. Ницше.
Предки Николая Васильевича Устрялова были людьми, служившими российскому государству и отечественной науке. Его отец, Василий Иванович, окончив в Киеве медицинский факультет Императорского университета Св. Владимира, сочетался браком с дочерью калужского купца. Сначала супруги жили в Петербурге, где у них 25 ноября (7 декабря) 1890 года родился сын Николай, а через пару лет появился на свет его брат Михаил. В 1900 году семья переехала в Калугу.
Подростками Николай и Михаил выпускали домашний рукописный журнал «Любитель», где помещали и свои заметки. Николаю были интересно оттачивать свое перо. В 1901–1908 годах он учился в калужской Николаевской классической гимназии, которую окончил с серебряной медалью и поступил на юридический факультет Московского университета. Он испытал влияние профессора Е.Н. Трубецкого; встречался с выдающимися мыслителями и учеными той эпохи Б.П. Вышеславцевым, С.А. Котляревским, П.И. Новгородцевым, С.Н. Булгаковым, Н.А. Бердяевым, И.А. Ильиным, П.А. Флоренским, Н.О. Лосским, А.А. Кизеветтером. В работах Устрялова можно усмотреть влияние славянофилов, К.Н. Леонтьева и Ф. Ницше.
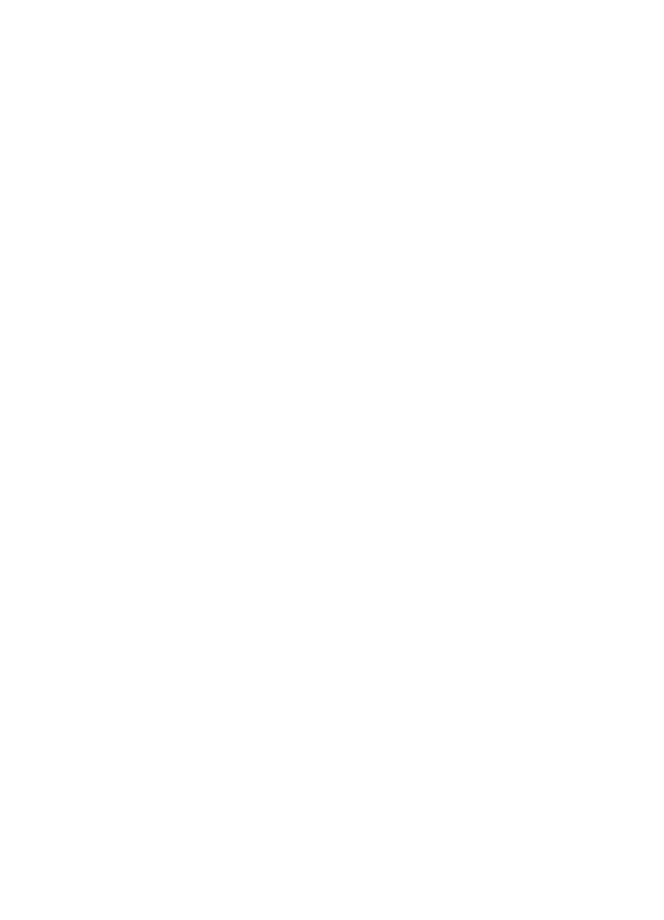
Н.В. Устрялов. Фотография в аттестате зрелости. 1908 г.
Политические страсти захватывали тогда многих, в том числе и тех, кто погрузился в изучение наук. Устрялов стал членом студенческой фракции Партии народной свободы (ПНС). За ним была установлена слежка, полиция обыскала его жилище в Москве и дом родителей в Калуге.
Тем не менее Устрялов успешно окончил университет и 1 июня 1913 года был удостоен диплома I степени за сочинение на тему «Тео рия права как этического минимума». По рекомендации Б.П. Вышеславцева и
Е.Н. Трубецкого его оставили при кафедре энциклопедии и истории философии права для приготовления к профессорскому званию. К весне 1916 г. он сдал все магистерские экзамены и был удостоен звания приват-доцента. В октябре того же года в «Русской мысли» увидела свет его работа «Национальная проблема у первых славянофилов».
Накануне 1917 года Устрялов, уже будучи членом партии кадетов, воспринимал политическую ситуацию как конфликт «добра» (общественность России) и «зла» (самодержавный режим). Он приветствует Февральскую революцию и участвует в митинге в поддержку Временного правительства у московского Манежа. Весной 1917 года Устрялов писал, что «русскую революцию породила прежде всего великая европейская война… Война окончательно, бесповоротно доказала всем негодность старого порядка… Революция была прежде всего актом воли страны к победе… Революция превратилась в патриотический символ, в национальный долг, в клич победы».
Тем не менее Устрялов успешно окончил университет и 1 июня 1913 года был удостоен диплома I степени за сочинение на тему «Тео рия права как этического минимума». По рекомендации Б.П. Вышеславцева и
Е.Н. Трубецкого его оставили при кафедре энциклопедии и истории философии права для приготовления к профессорскому званию. К весне 1916 г. он сдал все магистерские экзамены и был удостоен звания приват-доцента. В октябре того же года в «Русской мысли» увидела свет его работа «Национальная проблема у первых славянофилов».
Накануне 1917 года Устрялов, уже будучи членом партии кадетов, воспринимал политическую ситуацию как конфликт «добра» (общественность России) и «зла» (самодержавный режим). Он приветствует Февральскую революцию и участвует в митинге в поддержку Временного правительства у московского Манежа. Весной 1917 года Устрялов писал, что «русскую революцию породила прежде всего великая европейская война… Война окончательно, бесповоротно доказала всем негодность старого порядка… Революция была прежде всего актом воли страны к победе… Революция превратилась в патриотический символ, в национальный долг, в клич победы».
Но к середине 1917 года Устрялов разочаровался в способности новой власти управлять страной: «Хотели дать указующий урок миру, а дали устрашающий пример. Мечтали о земном рае, а создали нечто, весьма похожее на ад… Презирали буржуазный Запад, и сами едва ли не стали всеобщим посмешищем…» и выражал надежду на появление «русского Наполеона», которого увидел в генерале Л.Г. Корнилове, поддержав его выступление. У Устрялова сложились собственные впечатления о состоянии «революционной армии». Он читал лекции для офицеров и солдат на армейских курсах в Каменец-Подольске; побывал на фронтовых позициях и в окопах. После поездки на Юго-Западный фронт Устрялова одолевают катастрофические предчувствия. В конце сентября он констатировал, что Россия идет к новому самодержавию, деспотизму и террору.
Победу большевиков в Петрограде Устрялов первоначально воспринял критически, определив эти события как «начало конца». Сравнивая российские события с Французской революцией, он увидел в большевиках новых якобинцев и предрек им крушение. Вместе с тем в конце декабря 1917 года Устрялов писал: «Мы имеем перед собою настоящую, подлинную русскую революцию, развернувшуюся во всю ширь… Нужно пройти через большевизм».
Победу большевиков в Петрограде Устрялов первоначально воспринял критически, определив эти события как «начало конца». Сравнивая российские события с Французской революцией, он увидел в большевиках новых якобинцев и предрек им крушение. Вместе с тем в конце декабря 1917 года Устрялов писал: «Мы имеем перед собою настоящую, подлинную русскую революцию, развернувшуюся во всю ширь… Нужно пройти через большевизм».
«Мы должны “до полной победы” продолжать нашу борьбу с большевизмом, но мы обязаны воздать ему должное… Хочется верить — настанет пора, когда, истребив и похоронивши большевиков, мы со спокойною совестью бросим на их могилы иммортели».
Н.В. Устрялов. «Белый Омск (Дневник колчаковца)». 7–8 марта 1919 г.
28 ноября 1917 года постановлением Совнаркома кадеты были объявлены партией «врагов народа», тем самым ее члены были поставлены вне закона. Устрялов, избранный в то время председателем Калужского губернского комитета кадетской партии, «от ареста чудом спасся» (взяли заложником его брата, которого потом отпустили) и перебрался в Москву, где вместе с Ю.В. Ключниковым и Ю.Н. Потехиным в апреле — июне 1918 года издавал еженедельник «Накануне». Выход из государственного кризиса он видел в диктатуре сильной личности. Многие тогда ждали, что освобождение от большевиков придет с Дона, от подпольных «союзов» и «центров», или из стран Антанты, а может, и от противников — немцев. Весной 1918 года Устрялов в статье «Мнимый тупик» писал: «“Диктатор” идет, не звеня шпорами и не гремя саблею, идет не с Дона, Кубани или Китая. Он идет “голубиною походкою”, “неслышною поступью”. Он рождается вне всяких “заговоров”, он зреет в сердцах и в недрах сознания, и неизвестны еще конкретные формы его реального воплощения. Никому неизвестны…»
Летом того же года Устрялов выступает в Тамбове с курсом популярных лекций. Зимой он оставляет Москву и переезжает в Пермь, где в начале 1919 года его избирают профессором Пермского университета. После взятия города белыми он отбывает в Омск, где встречается с Ю.В. Ключниковым. В Омске Устрялов получил должность юрисконсульта Управления делами правительства А.В. Колчака, позже стал директором пресс-бюро Отдела печати при правлении Верховного правителя и Совете министров, одновременно являясь начальником отдела иностранной информации Русского бюро печати и фактически редактором ежедневной газеты «Русское дело».
«Выступая в защиту прекращения вооруженной борьбы с большевизмом, я и мои единомышленники все время сознавали внешнюю “еретичность” этой точки зрения, но обстановка полного разложения “контрреволюции”… настойчиво диктовала именно такой выход из положения…»
Н.В. Устрялов. Из письма П.Б. Струве.
15 октября 1920 г.
Первоначально он восхищался Колчаком, агитируя за введение верховным правителем России «чистой диктатуры», но постепенно пришел к выводу, что Колчак оказался «совсем не Наполеоном русской революции». Он «слишком честен, слишком тонок, слишком “хрупок”… для “героя” истории».
После падения белого Омска в ноябре 1919 года Устрялов эвакуировался в Иркутск, где оставался до тех пор, пока колчаковский режим не пал. 12 января 1920 года в поезде японской военной миссии он бежал в Читу, откуда переехал в Маньчжурию, в Харбин, который, по сути, был вполне русским городом, возникшим в 1898 году в связи с постройкой Россией Китайско-Восточной железной дороги. Так началась жизнь Устрялова в эмиграции.
После падения белого Омска в ноябре 1919 года Устрялов эвакуировался в Иркутск, где оставался до тех пор, пока колчаковский режим не пал. 12 января 1920 года в поезде японской военной миссии он бежал в Читу, откуда переехал в Маньчжурию, в Харбин, который, по сути, был вполне русским городом, возникшим в 1898 году в связи с постройкой Россией Китайско-Восточной железной дороги. Так началась жизнь Устрялова в эмиграции.
В марте 1920 года Николай Васильевич стал первым деканом созданных по его инициативе Высших экономико-юридических курсов при Харбинском коммерческом училище, летом 1922 года преобразованных в Харбинский юридический факультет. Он преподавал студентам государственное право, руководил философским кружком, редактировал некоторые тома «Известий» факультета.
В сборнике статей «В борьбе за Россию» (Харбин, 1920) Устрялов констатировал, что «рушится привычная идео логия, отвергнутая, разбитая жизнью», и признал, что белые «побеждены и побеждены в масштабе всероссийском, а не местном только». В качестве одной из причин поражения Устрялов называл то обстоятельство, что антибольшевистское движение слишком связало себя с иностранными элементами и невольно окружило большевизм национальным ореолом. «Одними лишь иностранными штыками национального возрожденния не достигнешь», как бы ни были возвышенны помыслы белых, они были обречены.
В сборнике статей «В борьбе за Россию» (Харбин, 1920) Устрялов констатировал, что «рушится привычная идео логия, отвергнутая, разбитая жизнью», и признал, что белые «побеждены и побеждены в масштабе всероссийском, а не местном только». В качестве одной из причин поражения Устрялов называл то обстоятельство, что антибольшевистское движение слишком связало себя с иностранными элементами и невольно окружило большевизм национальным ореолом. «Одними лишь иностранными штыками национального возрожденния не достигнешь», как бы ни были возвышенны помыслы белых, они были обречены.
В 1921 году в Париже вышел в свет сборник «Смена вех», давший название целому общественно-политическому движению — «сменове ховству». Ключевой в сборнике была статья Устрялова Patriotica, название которой отсылало к одноименной работе другого эмигранта — политика, философа, историка и публициста П.Б. Струве. «Смена вех» была свое образным выражением полемики с авторами значимого для консервативной и либеральной интеллигенции сборника «Вехи», изданном в Москве в 1909 году. Многие из авторов «Вех» стали эмигрантами: уже упомянутый П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, о. Сергий Булгаков.
Сформулированный в сборнике «Смена вех» устряловский национал-большевизм (этот термин, взятый у немецкого публициста Эрнста Никиша, он сам первоначально не использовал) был шире, чем «смена вех» в оценке большевиков, что позволяло поддерживать его разным людям. Евразиец П.Н. Савицкий в письме к П.Б. Струве от 5 ноября 1921 года признавал, что принадлежит к числу немногих в русской эмиграции единомышленников Устрялова. По мнению Савицкого, поражение белой альтернативы не оставляет выхода, так как если бы был выбор, то «большинство тех, кто мыслит ныне национал-большевистски, не было на стороне большевиков». Савицкий отмечал, что «политическая годность большевиков резко контрастирует с неспособностью их соперников».
Сформулированный в сборнике «Смена вех» устряловский национал-большевизм (этот термин, взятый у немецкого публициста Эрнста Никиша, он сам первоначально не использовал) был шире, чем «смена вех» в оценке большевиков, что позволяло поддерживать его разным людям. Евразиец П.Н. Савицкий в письме к П.Б. Струве от 5 ноября 1921 года признавал, что принадлежит к числу немногих в русской эмиграции единомышленников Устрялова. По мнению Савицкого, поражение белой альтернативы не оставляет выхода, так как если бы был выбор, то «большинство тех, кто мыслит ныне национал-большевистски, не было на стороне большевиков». Савицкий отмечал, что «политическая годность большевиков резко контрастирует с неспособностью их соперников».
«…последние годы приучили воспринимать человеческое горе, как нечто, лежащее в порядке вещей. Больше того: они довольно прочно научили смотреть и на собственную жизнь как на отрадный, но уже словно сверхсметный, сверхмерный дар, и каждый новый год принимать уже не как должное, а как чью-то своеобразную милость. Чего же обижаться, когда оскудеет милостивая рука?»
Н.В. Устрялов. «Крушение в тайге» (1926 г.)
Новый сборник Устрялова «Под знаком революции» (Харбин, 1925; переиздан в 1927) не прошел незамеченным. В статье «Февральская революция (к 8-летнему юбилею)» автор писал, имея в виду в том числе и самого себя: «Да, все мы, даже самые трезвые, были хоть на миг, хоть на пару дней опьянены этим хмельным напитком весенней революции». Затем слепая стихия сокрушила все рубежи, а «символом России казался безглазый поезд, облепленный серой, ужасной массой человеческой саранчи». Спасение России «нашла история, октябрьским морозом дохнувшая на захмелевшую от свободы Россию». Большевики характеризовались Устряловым как люди с железной волей и энергией, сумевшие остановить распад государственности. «И растворившаяся в пространствах Россия вновь восстает из пространств. В новом облике, в новом одеянии».
Летом 1925 года Устрялов совершил поездку в советскую Москву и пришел к выводу, что за пересмотром экономических основ советского режима (нэп) последуют идеологические изменения, а советский патриотизм в скором времени сменится русским. Свои впечатления он изложил в сборнике «Россия (У окна вагона)» (Харбин, 1926).
Его тексты привлекли внимание советских вождей: И.В. Сталина, А.В. Луначарского, Г.Е. Зиновьева, Н.И. Бухарина, М.Н. Рютина и др. Его имя даже упоминалось в докладе Сталина на XIV съезде партии в декабре 1925 года.
После продажи КВЖД зависимому от Японии Манчжурскому государству Устрялов вместе с семьей в 1935 году вернулся в СССР. По возвращении работал в должности профессора и читал лекции по экономической географии в Московском институте инженеров транспорта (1935–1937). В 1936 году в 56-м томе Большой советской энциклопедии про Устрялова была помещена большая статья.
6 июня 1937 года Устрялов был арестован по обвинению в том, что «с 1928 года являлся агентом японской разведки» (роковым стал в ряду других его «преступлений» факт чтения лекции в Институте японо-русского общества в Харбине), а в «1935 году установил контрреволюционную связь с Тухачевским». Мыслитель понимал абсурдность выдвинутых обвинений в шпионаже и, отвечая на вопросы следователя, стремился через завесу лжи донести свою позицию.
14 сентября 1937 года Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в «шпионаже, контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации» Устрялов был приговорен к смертной казни и в тот же день расстрелян. Тело кремировали, а прах бросили в безымянную общую могилу на новом кладбище Донского монастыря.
Только 20 сентября 1989 года Николай Васильевич был реабилитирован Пленумом Верховного Суда СССР.
Его тексты привлекли внимание советских вождей: И.В. Сталина, А.В. Луначарского, Г.Е. Зиновьева, Н.И. Бухарина, М.Н. Рютина и др. Его имя даже упоминалось в докладе Сталина на XIV съезде партии в декабре 1925 года.
После продажи КВЖД зависимому от Японии Манчжурскому государству Устрялов вместе с семьей в 1935 году вернулся в СССР. По возвращении работал в должности профессора и читал лекции по экономической географии в Московском институте инженеров транспорта (1935–1937). В 1936 году в 56-м томе Большой советской энциклопедии про Устрялова была помещена большая статья.
6 июня 1937 года Устрялов был арестован по обвинению в том, что «с 1928 года являлся агентом японской разведки» (роковым стал в ряду других его «преступлений» факт чтения лекции в Институте японо-русского общества в Харбине), а в «1935 году установил контрреволюционную связь с Тухачевским». Мыслитель понимал абсурдность выдвинутых обвинений в шпионаже и, отвечая на вопросы следователя, стремился через завесу лжи донести свою позицию.
14 сентября 1937 года Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в «шпионаже, контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации» Устрялов был приговорен к смертной казни и в тот же день расстрелян. Тело кремировали, а прах бросили в безымянную общую могилу на новом кладбище Донского монастыря.
Только 20 сентября 1989 года Николай Васильевич был реабилитирован Пленумом Верховного Суда СССР.
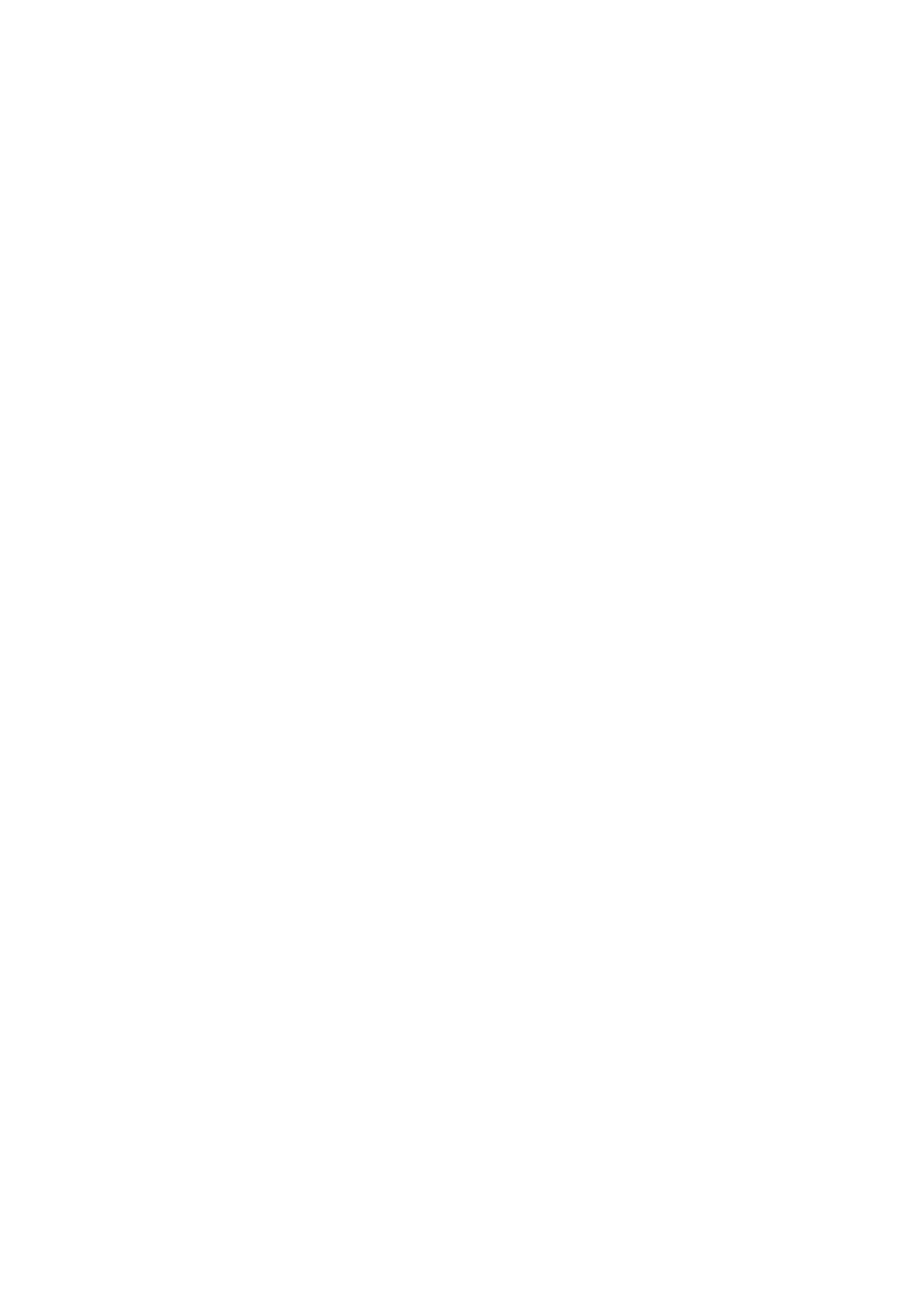
Пекинские перспективы
Жизнь Н.В. Устрялова в эмиграции связана с Китаем. В Харбине он некоторое время преподавал международное право на юридическом факультете местного университета, работал в учебном отделе, а затем в библиотеке КВЖД