«Я — граф, черт подери!»
Алексей Николаевич Толстой
(1882/83–1945)
(1882/83–1945)
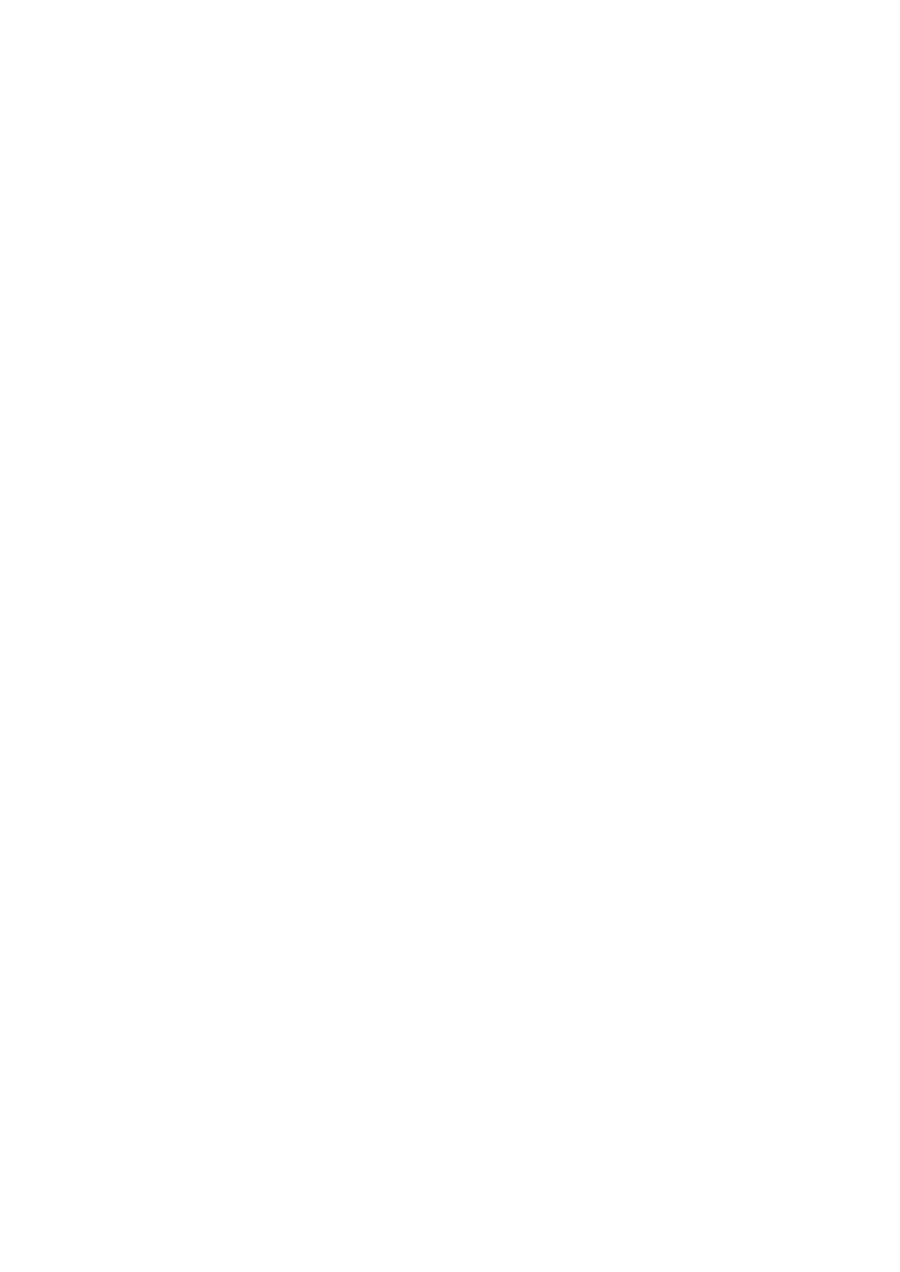
Беседа с Гербетом Уэллсом
Знакомство А.Н. Толстого с Гербертом Уэллсом состоялось в 1916 году, когда Толстой приехал к Уэллсу в гости с группой русских писателей. Позднее они встречались еще трижды: в 1934, 1936 и 1937 годах
Знакомство А.Н. Толстого с Гербертом Уэллсом состоялось в 1916 году, когда Толстой приехал к Уэллсу в гости с группой русских писателей. Позднее они встречались еще трижды: в 1934, 1936 и 1937 годах
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
29 декабря 1882 г. (10 января 1883 г.) — родился в Николаевске (ныне Пугачевск) Саратовской губернии
1907 г. — окончил без защиты диплома Петербургский технологический институт
1908 г. — начал печатать прозаические сочинения
1914 г. — стал военным корреспондентом
1917 г. — назначен Временным правительством «комиссаром по регистрации печати»
Апрель 1919 г. — вместе с семьей эвакуировался из Одессы в Стамбул
1919–1922 гг. — проживал в Париже
1923 г. — вернулся в СССР
1937 г. — публикует первое произведение о Сталине — повесть «Хлеб (Оборона Царицына)»
1939 г. — избран академиком АН СССР
23 февраля 1945 г. — скончался в Москве
29 декабря 1882 г. (10 января 1883 г.) — родился в Николаевске (ныне Пугачевск) Саратовской губернии
1907 г. — окончил без защиты диплома Петербургский технологический институт
1908 г. — начал печатать прозаические сочинения
1914 г. — стал военным корреспондентом
1917 г. — назначен Временным правительством «комиссаром по регистрации печати»
Апрель 1919 г. — вместе с семьей эвакуировался из Одессы в Стамбул
1919–1922 гг. — проживал в Париже
1923 г. — вернулся в СССР
1937 г. — публикует первое произведение о Сталине — повесть «Хлеб (Оборона Царицына)»
1939 г. — избран академиком АН СССР
23 февраля 1945 г. — скончался в Москве
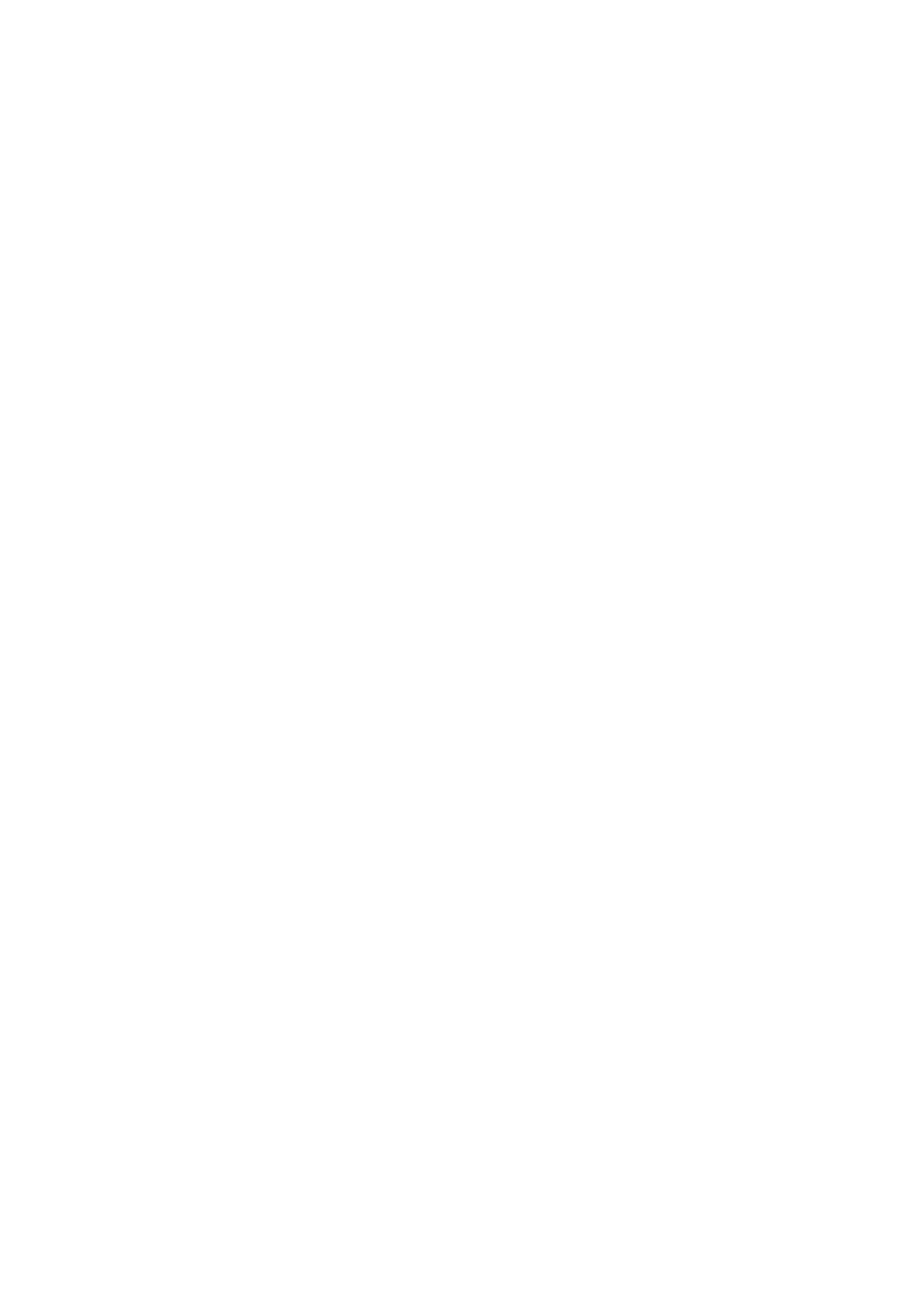
А.Н. Толстой. Ленинград. 1926 г.
Писателя Алексея Николаевича Толстого называли в Советском Союзе «красным графом». Иногда насмешливо, иногда уважительно. Советский деятель В.М. Молотов в 1936 году на VIII Чрезвычайном съезде Советов говорил: «Товарищи! Передо мной выступал здесь всем известный писатель Алексей Николаевич Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой! А теперь? Теперь он товарищ Толстой, один из лучших и самых популярных писателей земли советской — товарищ А.Н. Толстой. В этом виновата история. Но перемена-то произошла в лучшую сторону. С этим согласны мы вместе с самим А.Н. Толстым».
В те годы был популярным анекдот: в Детском Селе, где жил писатель, в кабинет к Толстому стучится лакей:«Ваше сиятельство, пора на партсобрание». Анекдот этот примечателен двумя неувязками. Во-первых, Толстой никогда не вступал в партию, но народная молва прочно его с ней повязала, а во-вторых, что касается «вашего сиятельства», то в эмиграции, да и не только в ней были люди, в подлинности «графства» Алексея Николаевича сильно сомневавшиеся либо просто не принимавшие его аристократический титул всерьез.
Для него же это была вещь непреложная («Я — граф, черт подери!» — говорил Толстой в 1937 году в Париже художнику Юрию Анненкову), и именно этот факт определил жизнь этого литературного баловня, советского Гаргантюа, эгоистического младенца, как называл его А.М. Горький, национал-большевика, космополита, великого писателя и труженика, что признавал даже взыскательный Бунин, гедониста и эпикурейца, сидящего перед заставленным яствами столом, каким изобразил Толстого художник П.П. Кончаловский.
В те годы был популярным анекдот: в Детском Селе, где жил писатель, в кабинет к Толстому стучится лакей:«Ваше сиятельство, пора на партсобрание». Анекдот этот примечателен двумя неувязками. Во-первых, Толстой никогда не вступал в партию, но народная молва прочно его с ней повязала, а во-вторых, что касается «вашего сиятельства», то в эмиграции, да и не только в ней были люди, в подлинности «графства» Алексея Николаевича сильно сомневавшиеся либо просто не принимавшие его аристократический титул всерьез.
Для него же это была вещь непреложная («Я — граф, черт подери!» — говорил Толстой в 1937 году в Париже художнику Юрию Анненкову), и именно этот факт определил жизнь этого литературного баловня, советского Гаргантюа, эгоистического младенца, как называл его А.М. Горький, национал-большевика, космополита, великого писателя и труженика, что признавал даже взыскательный Бунин, гедониста и эпикурейца, сидящего перед заставленным яствами столом, каким изобразил Толстого художник П.П. Кончаловский.
«Я любил жизнь, всем своим темпераментом противился абстракции, идеалистическим мировоззрениям».
А.Н. Толстой. «Краткая автобиография» (1944 г.)
Все это объясняет его творческий и жизненный путь. Алексей Николаевич Толстой родился в самом конце 1882 года, о чем в метрической книге Предтеченской церкви города Николаевска Самарской губернии была сделана соответствующая запись: «1882 года Декабря 29 дня рожден. Генваря 12 дня 1883 года крещен Алексей; родители его: Гвардии поручик, граф Николай Александров Толстой и законная его жена Александра Леонтьевна, оба православные». О том, кто его настоящий отец, и соответственно о своем высоком происхождении, мальчик узнал только в 13 лет. А до этого было обычное крестьянское детство в имении отчима Алексея Аполлоновича Бострома, человека довольного бедного, непрактичного, и это очень важная подробность жизни будущего писателя. Толстой не родился графом и не воспитывался с младенчества как аристократ, но почувствовал себя таковым в юности, точно герой античного романа, похищенный в детстве пиратами, однако благодаря этому «похищению» он доподлинно узнал народную, крестьянскую жизнь.
Его детство описано в одной из самых замечательных русских книг — «Детстве Никиты», которая была создана в эмиграции и, по сути, стала первым крупным произведением литературы русского зарубежья. «Я думаю, если бы я родился в городе, а не в деревне, не знал бы с детства тысячи вещей, — эту зимнюю вьюгу в степях, в заброшенных деревнях, святки, избы, гаданья, сказки, лучину, овины,которые особым образом пахнут, я, наверное, не мог бы так описать старую Москву».
«Революция — всегда огонь. Она всегда изменяет качественно нацию во всей сложности ее духа. Все остальное — реформы, перевороты, бунты — лишь оттяжка или ускорение грядущего страшного часа. Я слишком близок к современным событиям, и душа моя слишком измучена, но все же осмеливаюсь утверждать, что 1 марта 1917 года у нас произошла не революция, а военный и голодный бунт как реакция на трехлетнюю войну. …Но, думается мне, октябрьские дни, ураган крови и ужаса, пролетевший по стране, потревожил наконец нашу дремоту, и, пробуждаясь, мы ужаснулись греху; мы приготовились, мы должны быть готовы к покаянию, к последней муке».
А.Н. Толстой. «На костре». Ноябрь 1917 г.
В детстве он был действительно счастлив и, полюбив этот вкус навсегда, последующую жизнь за счастьем гнался, и можно сказать, что в этой погоне ему все, ну или почти все, удалось. Окончив в 1906 году Технологический институт, Толстой очень быстро убедился, что инженерная наука его совсем не интересует; его тянуло к искусству, причем некоторое время он не знал, то ли это будет живопись, то ли литература. Однако выбор он вскоре сделал, но и в литературе разбрасывался по-толстовски широко. Писал стихи, большую и малую прозу, пьесы, критические и публицистические статьи, и все ему удавалось, и все сразу признали появление нового имени в русской литературе. Он был вообще счастливчик, везунчик и, в отличие от многих своих собратьев от Бунина до Горького, довольно легко вошел в литературу, став еще до революции центром культурной жизни императорской России, а потом и Советского Союза. «Брюхом талантлив», — выразился о новом авторе недолюбливавший его Федор Сологуб.
Успеху Толстого немало способствовали и фамилия, и графский титул, и невероятное человеческое обаяние. Серебряный век русской литературы — время столь же богатое, сколь и мутное, полное надежд и отчаяния, сражения с реальностью, погоней за мечтой и разочарованием, предчувствием и жаждой катастрофы — стало его родной стихией; со всеми он был знаком, всюду ощущал себя дома, дружил, влюблялся, кутил, хулиганил, раздражал, провоцировал. Был секундантом на последней дуэли русской поэзии между Н.С. Гумилевым и М.А.Волошиным и, поскольку страшно ценил обоих, свою главную задачу видел в том, чтобы своими большими ногами отмерить как можно более широкое расстояние между дуэлянтами и они не попали бы друг в друга. Секундантом был у Волошина, а через несколько месяцев поехал на свадьбу Гумилева и Ахматовой, и в этом толстовском умении, в потребности и жажде всех мирить и объединять была важнейшая черта его натуры, проявившая себя и в более поздние времена.
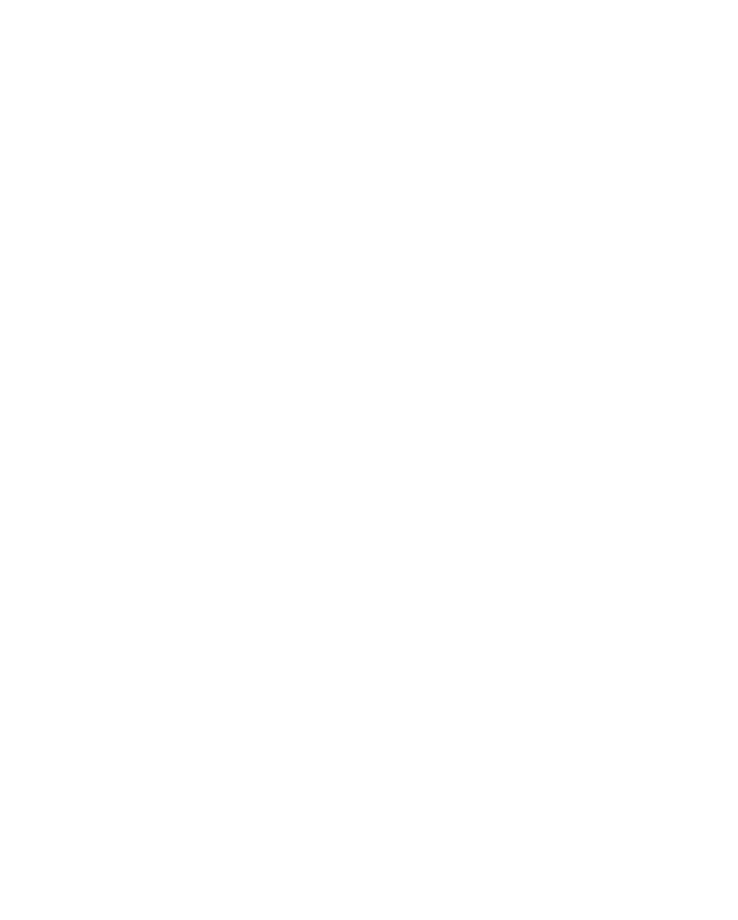
А.Н. Толстой и его четвертая жена Лариса Ильинична (Крестинская). Барвиха. 1943–1944 гг.
Был он счастлив в любви. Первый раз женился рано, будучи студентом, и с женой вскоре расстался, его второй супругой стала замечательная художница и удивительная красавица Софья Исааковна Дымшиц, вместе с которой они покоряли в 1908 году Париж, но брак двух ярких творческих личностей, не желающих уступать друг другу, тоже оказался недолговечным, и третьей супругой Толстого стала поэтесса Наталья Васильевна Крандиевская.
История их любви легла позднее в основу романа «Хождение по мукам». Роман этот был написан ужев эмиграции, где Алексей Толстой оказался в 1919 году. Это, безусловно, ключевой период его биографии, начиная с которого в творчестве писателя все отчетливее зазвучали темы общественные.
Отношение Толстого к большевистской революции изначально было резко отрицательным. Он увидел в большевиках бандитов, разрушителей, национал-предателей, и это чувство особенно обострилось у него после Брестского мира, в результате которого Россия потеряла свои исторические земли. Такого вероломства русский патриот и гражданин простить новой власти не мог и покинул страну победившего пролетариата ее убежденнейшим врагом.
История их любви легла позднее в основу романа «Хождение по мукам». Роман этот был написан ужев эмиграции, где Алексей Толстой оказался в 1919 году. Это, безусловно, ключевой период его биографии, начиная с которого в творчестве писателя все отчетливее зазвучали темы общественные.
Отношение Толстого к большевистской революции изначально было резко отрицательным. Он увидел в большевиках бандитов, разрушителей, национал-предателей, и это чувство особенно обострилось у него после Брестского мира, в результате которого Россия потеряла свои исторические земли. Такого вероломства русский патриот и гражданин простить новой власти не мог и покинул страну победившего пролетариата ее убежденнейшим врагом.
«Дружба моя с Алексеем Толстым началась уже в эмиграции, куда он приехал с женой, милой, красивой и талантливой поэтессой. У них был уже трехлетний сын Никита. Привезли они с собой и сына Наташи от первого брака, Фефу Волькенштейна. Целая семья. И нужно было Алексею разворачиваться, чтобы эту семью кормить. Вился, бедный, как птица над гнездом. …Мы все Толстого любили. Он был занятный собеседник, неплохой товарищ и, в общем, славный малый. В советской России такие типы определяются выражением “глубоко свой парень”. Его исключительный, сочный, целиком русский талант заполнял каждое его слово, каждый жест. Ходил он по Парижу, словно Иванушка из сказки по царским палатам, с разинутым ртом, и ни Париж ему, ни он Парижу ни с какой стороны не подходили. Французскому языку до конца дней своих не выучился».
Н. Тэффи. «Моя летопись» (1932 г.)
«В эпоху великой борьбы белых и красных я был на стороне белых, — писал Толстой позднее в открытом письме Н.В. Чайковскому, бывшему народнику и деятелю Вольной русской прессы. —Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед. В эти годы погибли два моих родных брата — один зарублен, другой умер от ран, расстреляны двое моих дядей, восемь человек моих родных умерло от голода и болезней. Я сам с семьей страдал ужасно. Мне было за что ненавидеть».
Но именно этот человек через несколько лет вернется на Родину и станет классиком советской литературы, крупным общественным деятелем, академиком, депутатом Верховного Совета и, наконец, автором знаменитого лозунга «За Родину, за Сталина!» Отчего так? Очень многие в эмигрантском окружении Толстого расценили его отъезд в Советскую Россию как предательство, измену, погоню за достатком, однако вот что важно заметить. В отличие от Бунина, который знал и был готов к тому, что уехал из России навсегда и вернется в лучшем случае своими книгами, Толстой с потерей Родины и с эмиграцией не был в состоянии примириться психологически, лучше даже сказать — физически.
Но именно этот человек через несколько лет вернется на Родину и станет классиком советской литературы, крупным общественным деятелем, академиком, депутатом Верховного Совета и, наконец, автором знаменитого лозунга «За Родину, за Сталина!» Отчего так? Очень многие в эмигрантском окружении Толстого расценили его отъезд в Советскую Россию как предательство, измену, погоню за достатком, однако вот что важно заметить. В отличие от Бунина, который знал и был готов к тому, что уехал из России навсегда и вернется в лучшем случае своими книгами, Толстой с потерей Родины и с эмиграцией не был в состоянии примириться психологически, лучше даже сказать — физически.
«Жизнь в эмиграции была самым тяжелым периодом моей жизни. Там я понял, что значит быть парием, человеком, оторванным от родины, невесомым, бесплодным, не нужным никому ни при каких обстоятельствах».
А.Н. Толстой. «Краткая автобиография» (1944 г.)
Точнее всего об этом написал философ Федор Степун: «Я не склонен идеализировать мотивы
возвращения Толстого в 1923 году в Советскую Россию. [...] Мне, по крайней мере, кажется, что сговор Толстого с большевиками был в значительной степени продиктован ему живой тоской по России, правильным чувством, что в отрыве от ее стихии, природы и языка он как писатель выдохнется и пропадет. Человек, совершенно лишенный духовной жажды, но наделенный ненасытной жадностью души и тела, глазастый чувственник, лишенный всяких теоретических взглядов, Толстой не только по расчету возвращался в Россию, но и бежал в нее, как зверь в свою берлогу. Может быть, я идеализирую Толстого, но мне и поныне верится, что его возвращение было не только браком по расчету с большевиками, но и браком по любви с Россией».
возвращения Толстого в 1923 году в Советскую Россию. [...] Мне, по крайней мере, кажется, что сговор Толстого с большевиками был в значительной степени продиктован ему живой тоской по России, правильным чувством, что в отрыве от ее стихии, природы и языка он как писатель выдохнется и пропадет. Человек, совершенно лишенный духовной жажды, но наделенный ненасытной жадностью души и тела, глазастый чувственник, лишенный всяких теоретических взглядов, Толстой не только по расчету возвращался в Россию, но и бежал в нее, как зверь в свою берлогу. Может быть, я идеализирую Толстого, но мне и поныне верится, что его возвращение было не только браком по расчету с большевиками, но и браком по любви с Россией».
«Кто-то пустил про Толстого словцо: “Нотр хам де Пари”, пародируя название романа Гюго. Мережковским это нравилось. Толстой знал об их отношении к нему. Как-то встретив на улице Зинаиду Гиппиус, он подошел к ней, снял шляпу и почтительно сказал:
— Простите, что я существую.
Об этом эпизоде сама Зинаида Николаевна говорила:
— Я прямо не знала, что ему ответить. Пусть существует. Это же не от меня зависит.
Выходило так, что если бы от нее, то еще бабушка надвое бы сказала…»
— Простите, что я существую.
Об этом эпизоде сама Зинаида Николаевна говорила:
— Я прямо не знала, что ему ответить. Пусть существует. Это же не от меня зависит.
Выходило так, что если бы от нее, то еще бабушка надвое бы сказала…»
Н. Тэффи. «Моя летопись» (2016 г.)
Это все правда, но еще одна причина заключалась в том, что Алексей Толстой увидел, как на обломках прежней рождается новая «империя», и своим писательским инстинктом — а именно инстинкт был главной его чертой — потянулся в эту страну и стал ей искренне служить, никогда не забывая, впрочем, и о себе. Его жизнь в СССР сложилась невероятно удачно опять-таки благодаря той счастливой звезде, под которой он родился, невероятному трудолюбию и таланту. Можно как угодно оценивать те или иные поступки Алексея Толстого, его политические симпатии, высказывания, барский образ жизни, страсть к богатству, приписывать ему мнимые преступления... Но главное — он написал «Петра Первого», «Золотой ключик», «Гадюку», «Ибикус, или похождения Невзорова», «Гиперболоид инженера Гарина», драматическую дилогию об Иване Грозном. Он стал автором страстных и горячих статей в годы Великой Отечественной войны и вообще очень многое сделал для Победы, не дожив до нее всего несколько месяцев. При всей ловкости, гибкости своей натуры, при невероятном природном чутье, которое и спасло его в людоедские годы, Толстой всегда оставался самим собой. Он помогал многим людям. Невероятно ценил ту же Ахматову, и можно почти с уверенностью сказать, что, проживи он чуть дольше, не было бы никакого ждановского постановления 1946 года.
«Жили мы с Толстыми в Париже особенно дружно, встречались с ними часто, то бывали они в гостях у наших общих друзей и знакомых, то Толстой приходил к нам с Наташей, то присылал нам записочки в таком, например, роде:
“У нас нынче буйабез от Прюнье и такое пуи (древнее), какого никто и никогда не пивал, четыре сорта сыру, котлеты от Потэн, и мы с Наташей боимся, что никто не придет. Умоляю — быть в семь с половиной!”
…Но прошел год, прошел другой, денег не хватало все чаще, и Толстой стал бормотать: — Совершенно не понимаю, как быть дальше! Сорвал со всех, с кого было можно, уже тридцать семь тысяч франков — в долг, разумеется, как это принято говорить между порядочными людьми, — теперь бледнеют, когда я вхожу в какой-нибудь дом на обед или на вечор, — зная, что я тотчас подойду к кому-нибудь, притворно задыхаясь: тысячу франков до пятницы, иначе мне пуля в лоб!»
“У нас нынче буйабез от Прюнье и такое пуи (древнее), какого никто и никогда не пивал, четыре сорта сыру, котлеты от Потэн, и мы с Наташей боимся, что никто не придет. Умоляю — быть в семь с половиной!”
…Но прошел год, прошел другой, денег не хватало все чаще, и Толстой стал бормотать: — Совершенно не понимаю, как быть дальше! Сорвал со всех, с кого было можно, уже тридцать семь тысяч франков — в долг, разумеется, как это принято говорить между порядочными людьми, — теперь бледнеют, когда я вхожу в какой-нибудь дом на обед или на вечор, — зная, что я тотчас подойду к кому-нибудь, притворно задыхаясь: тысячу франков до пятницы, иначе мне пуля в лоб!»
И.А. Бунин. «Третий Толстой» (1949 г.)
О нем осталось множество воспоминаний, свидетельств, оценок, чаще пристрастных, резких, но иногда и справедливых. Пожалуй, самые верные слова, поднявшись над материальным и плотским, нашел писатель Борис Зайцев: «По таланту, стихийности (писал всегда с силой кита, выпускающего фонтан) в России соперников не имел. Прожил жизнь бурную, шумную, но и мутную, со славой, огромными деньгами, домом-музеем в Царском Селе, тремя автомобилями. Был ли душевно покоен? Не знаю. По немногому, оттуда дошедшему, благообразия в бытии его не было. Скорее тяжелое и неясное. Он любил роскошь, утеху жизни, но не весь был в этом.
В живых его нет. И все кажется, что его жизнь была очень уж мимолетной, такой краткой… От всего шума, пестроты, вилл, миллионов и автомобилей точно бы ничего не осталось. Блеснул, мелькнул, написал “Петра” с яркостью иногда удивительной, с удивительной недуховностью и прицелом на современность (по начальству) — и нет его. О нем вспоминаешь с туманной печалью, теперь спит мирно. О бессмертии души много мы с ним говорили когда-то».
В живых его нет. И все кажется, что его жизнь была очень уж мимолетной, такой краткой… От всего шума, пестроты, вилл, миллионов и автомобилей точно бы ничего не осталось. Блеснул, мелькнул, написал “Петра” с яркостью иногда удивительной, с удивительной недуховностью и прицелом на современность (по начальству) — и нет его. О нем вспоминаешь с туманной печалью, теперь спит мирно. О бессмертии души много мы с ним говорили когда-то».
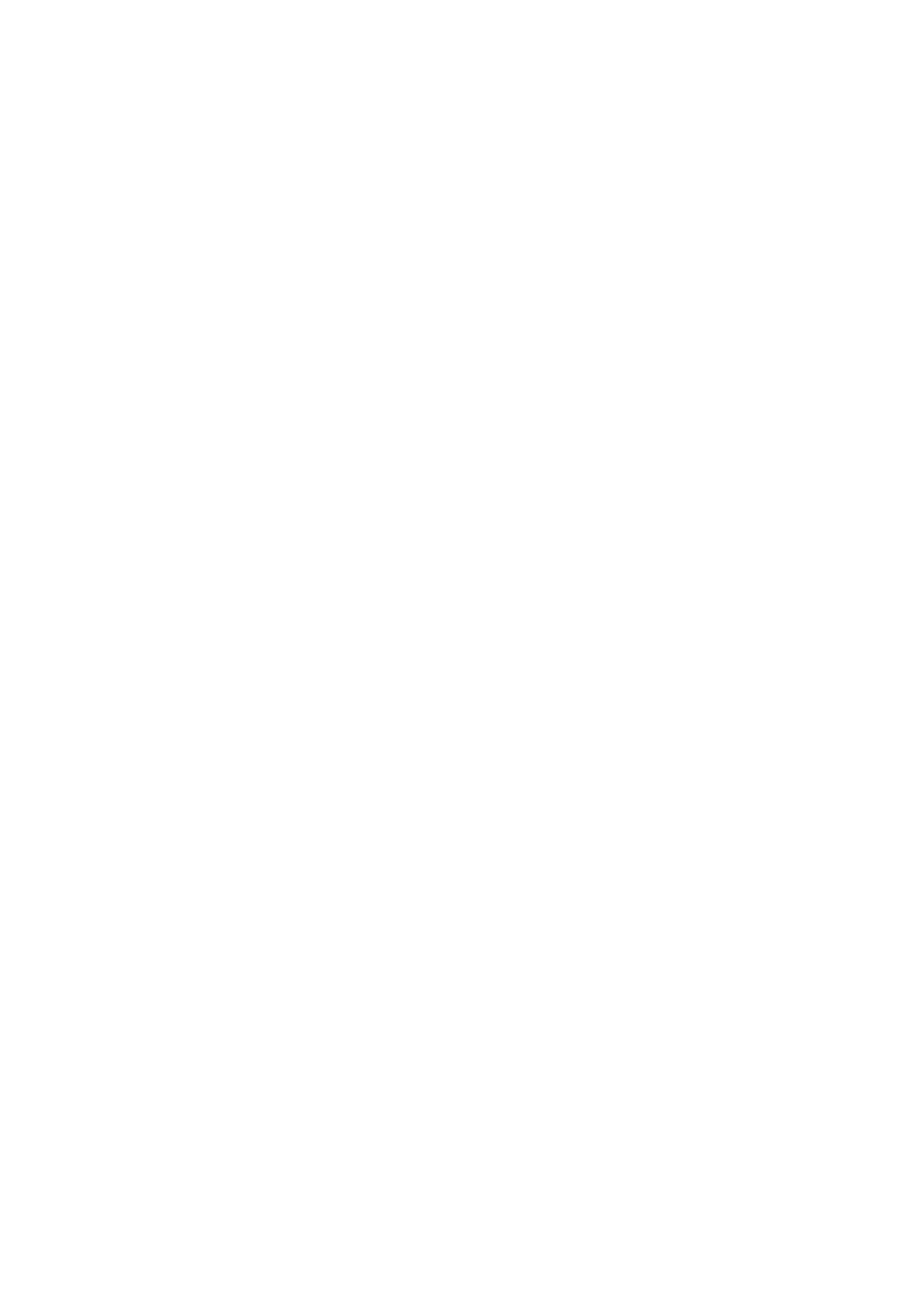
Берлин — один из самых красивых городов Европы
Первые годы А.Н. Толстого в эмиграции прошли в столице Германии