Зубр между двумя диктатурами
Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский
(1900–1981)
(1900–1981)
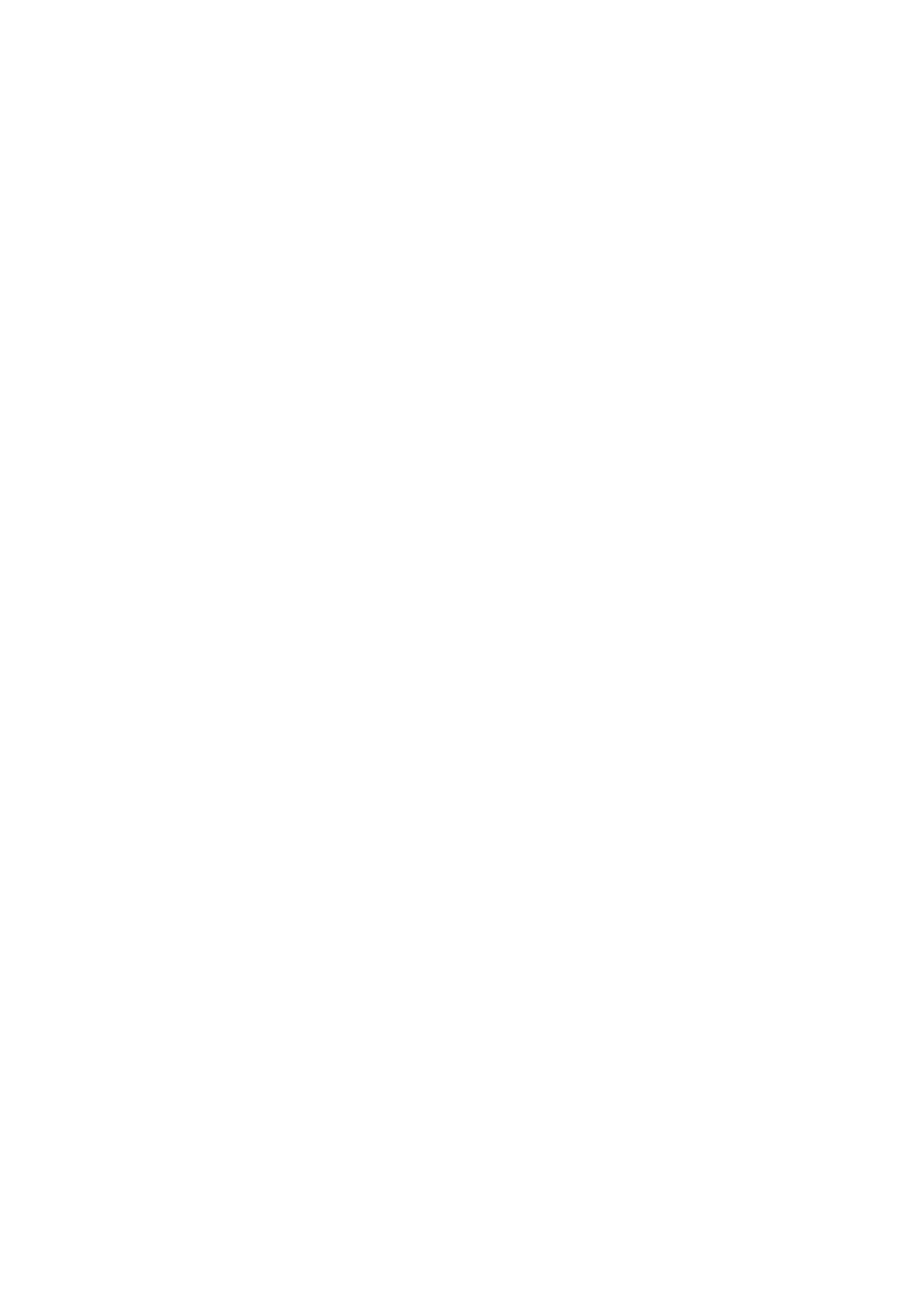
Вырвавшийся из плена пересудов и домыслов
Немецкий ученый Р. Ромпе вспоминал о Н.В. Тимофееве-Ресовском: «Он был человек православный, и всегда руководствовался только христианскими идеями. То, что Тимофеев спасал евреев, и не только евреев, — это факт! То, что он помогал своему сыну Фомке, который как раз состоял в [антифашистской] организации, — это факт! Он прятал у себя в подвале беглых советских военнопленных — это факт!»
Немецкий ученый Р. Ромпе вспоминал о Н.В. Тимофееве-Ресовском: «Он был человек православный, и всегда руководствовался только христианскими идеями. То, что Тимофеев спасал евреев, и не только евреев, — это факт! То, что он помогал своему сыну Фомке, который как раз состоял в [антифашистской] организации, — это факт! Он прятал у себя в подвале беглых советских военнопленных — это факт!»
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
7 (20) сентября 1900 г. — родился в Москве
1916–1922 гг. — учился в Московском городском народном университете Московском университете
1921–1925 гг. — работал в Институте экспериментальной биологии в Москве
Июнь 1925 г. — командирован за границу
1937 г. — отказался вернуться в СССР
Сентябрь 1945 г. — арестован в Берлине работниками НКВД и в 1946 г. приговорен к 10 годам ИТЛ
1955–1964 гг. — руководил отделом биофизики в Институте биологии АН СССР
1964–1969 гг. — заведовал отделом радиобиологии и генетики в Институте медицинской радиологии АМН СССР в Обнинске
28 марта 1981 г. — скончался в г. Обнинске Калужской области
7 (20) сентября 1900 г. — родился в Москве
1916–1922 гг. — учился в Московском городском народном университете Московском университете
1921–1925 гг. — работал в Институте экспериментальной биологии в Москве
Июнь 1925 г. — командирован за границу
1937 г. — отказался вернуться в СССР
Сентябрь 1945 г. — арестован в Берлине работниками НКВД и в 1946 г. приговорен к 10 годам ИТЛ
1955–1964 гг. — руководил отделом биофизики в Институте биологии АН СССР
1964–1969 гг. — заведовал отделом радиобиологии и генетики в Институте медицинской радиологии АМН СССР в Обнинске
28 марта 1981 г. — скончался в г. Обнинске Калужской области
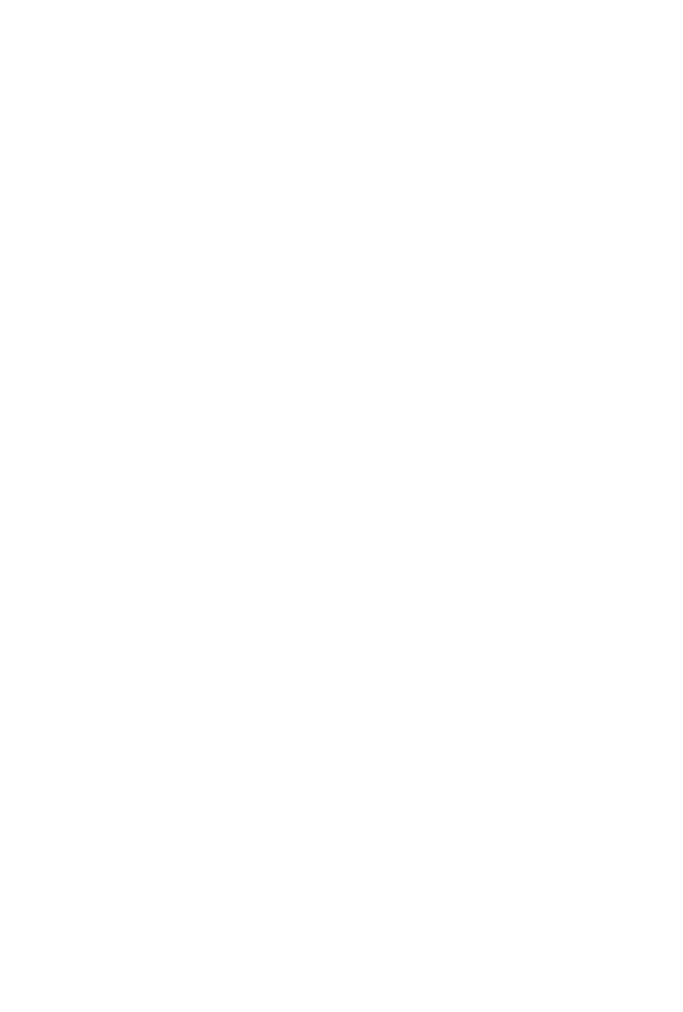
Н.В. Тимофеев-Ресовский. 1930-е гг.
Имя выдающегося ученого Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского известно отечественной читающей публике прежде всего благодаря замечательной повести Д.А. Гранина «Зубр», опубликованной уже после смерти ее героя, в 1987 году. Эта повесть начинается с описания яркой картины, увиденной Граниным на открытии одного научного конгресса: «В том дальнем углу в кресле сидел Зубр. Могучая его голова была набычена, маленькие глазки сверкали исподлобья колюче и зорко. К нему подходили, кланялись, осторожно пожимали руку. Оттопырив нижнюю губу, он пофыркивал, рычал то одобрительно, то возмущенно. Густая седая грива его лохматилась. Он был, конечно, стар, но годы не источили его, а скорее задубили. Он был тяжел и тверд, как мореный дуб».
Таким был Тимофеев-Ресовский, к которому подходили и которого приветствовали все мировые звезды первой величины.
Даже его происхождение было неординарным. Он родился 7 (20) сентября 1900 года в семье инженера путей сообщения Владимира Викторовича Тимофеева-Рясовского (именно так значилась тогда эта фамилия). Среди его предков по отцовской линии были представители дворянства из духовенства, мать происходила из старинного дворянского рода Всеволожских, однофамильного другому соименному роду потомков Рюрика (это уточнение важно, поскольку нередко Тимофеева-Ресовского считают Рюриковичем по матери).
Таким был Тимофеев-Ресовский, к которому подходили и которого приветствовали все мировые звезды первой величины.
Даже его происхождение было неординарным. Он родился 7 (20) сентября 1900 года в семье инженера путей сообщения Владимира Викторовича Тимофеева-Рясовского (именно так значилась тогда эта фамилия). Среди его предков по отцовской линии были представители дворянства из духовенства, мать происходила из старинного дворянского рода Всеволожских, однофамильного другому соименному роду потомков Рюрика (это уточнение важно, поскольку нередко Тимофеева-Ресовского считают Рюриковичем по матери).
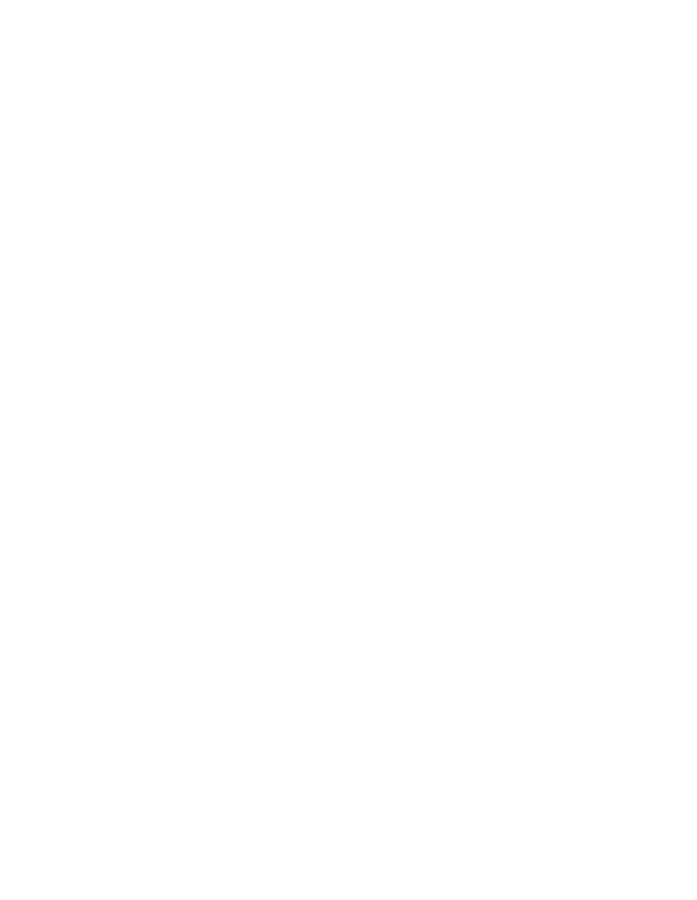
Герб дворян Рясовских — предков Николая Тимофеева-Ресовского
Николай учился сначала в 1-й Киевской гимназии, а затем в известной московской гимназии А.Е. Флёрова, находившейся в Мерзляковском переулке. Гимназия отличалась высоким уровнем обучения и хорошим составом учеников, пользовалась популярностью в среде московской интеллигенции. Здесь Тимофеев-Ресовский учился у замечательного преподавателя Сергея Ивановича Огнёва, который со временем стал выдающимся зоологом-териологом (то есть специалистом по млекопитающим; он же и ввел в науку сам термин «териология»). С 1916 года молодой Тимофеев-Ресовский посещал лекции в Московском народном университете им. А.Л. Шанявского, прославленном учебном заведении, известным своей демократичностью и великолепным подбором профессорского состава. Затем проходил курс в Московском университете. Студенчество пришлось на годы революции и Гражданской войны.
Недолго, в 1918–1919 годах, Тимофеев-Ресовский служил в РККА, воюя против Вооруженных сил Юга России под командованием генерала А.И. Деникина. диплома об окончании университета он так или не получил: в те годы это не считалось чем-то предосудительным, имевшим влияние на последующую карьеру ученого. С начала 1920-х годов он работал преподавателем в разных учебных заведениях Москвы. Одновременно началась и его научно-исследовательская деятельность.
Недолго, в 1918–1919 годах, Тимофеев-Ресовский служил в РККА, воюя против Вооруженных сил Юга России под командованием генерала А.И. Деникина. диплома об окончании университета он так или не получил: в те годы это не считалось чем-то предосудительным, имевшим влияние на последующую карьеру ученого. С начала 1920-х годов он работал преподавателем в разных учебных заведениях Москвы. Одновременно началась и его научно-исследовательская деятельность.
«Я до сих пор завидую людям, которые либо по небрежности, либо по глупости, либо по необразованности еще не прочли массу интересных книг, которые я прочитал. Я им завидую! Им же предстоит такое наслаждение!»
Н.В. Тимофеев-Ресовский «Воспоминания» (1993 г.)
Огромное влияние на Тимофеева-Ресовского оказала личность его университетского учителя
Н.К. Кольцова, одного из основателей генетики в России, создавшего научную школу биологов самых разных специальностей. Кольцов еще в 1917 году организовал в Москве уникальный Институт экспериментальной биологии, который объединил исследования, находившиеся на самом передовом крае биологической науки, в том числе и генетику. Поэтому неудивительно, что первая половина 1920-х годов для Тимофеева-Ресовского была связана как раз с кольцовским институтом и с отделом, который возглавлял другой выдающийся генетик С.С.Четвериков [см. очерк, посвященный Ф.Г. Добржанскому. — Прим. авт.]. Николай Владимирович вместе со своей женой Еленой Александровной, урожденной Фидлер, стали одними из последователей Четверикова, яркими представителями его школы. Идеи своего учителя Тимофеев-Ресовский старался впоследствии пропагандировать в Европе, где волею судеб оказался в предвоенные годы. Работая с плодовой мушкой дрозофилой, молодой ученый сделал важное научное открытие, установив, что единичные мутации могут вызывать множественные изменения во внешнем облике организма. Его исследования в области генетики тех лет впоследствии послужили основой для создания им в 1930-х годах теории микроэволюции.
Н.К. Кольцова, одного из основателей генетики в России, создавшего научную школу биологов самых разных специальностей. Кольцов еще в 1917 году организовал в Москве уникальный Институт экспериментальной биологии, который объединил исследования, находившиеся на самом передовом крае биологической науки, в том числе и генетику. Поэтому неудивительно, что первая половина 1920-х годов для Тимофеева-Ресовского была связана как раз с кольцовским институтом и с отделом, который возглавлял другой выдающийся генетик С.С.Четвериков [см. очерк, посвященный Ф.Г. Добржанскому. — Прим. авт.]. Николай Владимирович вместе со своей женой Еленой Александровной, урожденной Фидлер, стали одними из последователей Четверикова, яркими представителями его школы. Идеи своего учителя Тимофеев-Ресовский старался впоследствии пропагандировать в Европе, где волею судеб оказался в предвоенные годы. Работая с плодовой мушкой дрозофилой, молодой ученый сделал важное научное открытие, установив, что единичные мутации могут вызывать множественные изменения во внешнем облике организма. Его исследования в области генетики тех лет впоследствии послужили основой для создания им в 1930-х годах теории микроэволюции.
«Мне очень помогало то, что с малых лет и до теперешнего времени у меня постоянно бывали периодические, иногда краткосрочные, иногда долгосрочные увлечения чем-нибудь. Я всегда говорил своим ученикам и молодым человекам: “Плохо, когда человек теряет любознательность”. Любознательность — великая вещь. Но, к сожалению, многие люди рано очень теряют любознательность, а у других заменяется мужская любознательность женским любопытством».
Н.В. Тимофеев-Ресовский. «Воспоминания»
(1993 г.)
В 1925 году жизнь семьи Тимофеевых-Ресовских круто изменилась.
По рекомендации Н.К. Кольцова и тогдашнего наркома здравоохранения Н.А. Семашко (которому подчинялся кольцовский институт) Николай Владимирович был приглашен в Германию директором берлинского Института мозга Оскаром Фогтом. Там, в пригороде Берлина Бухе, был организован отдел генетики этого института, который и возглавил Тимофеев-Ресовский. В течение 20 лет он оставался во главе этого учреждения, которое весной 1945 года было реорганизовано в самостоятельный Институт генетики и биофизики.
По рекомендации Н.К. Кольцова и тогдашнего наркома здравоохранения Н.А. Семашко (которому подчинялся кольцовский институт) Николай Владимирович был приглашен в Германию директором берлинского Института мозга Оскаром Фогтом. Там, в пригороде Берлина Бухе, был организован отдел генетики этого института, который и возглавил Тимофеев-Ресовский. В течение 20 лет он оставался во главе этого учреждения, которое весной 1945 года было реорганизовано в самостоятельный Институт генетики и биофизики.
Заграничная командировка Тимофеева-Ресовского неоднократно продлевалась, что объяснялось необходимостью не прерывать начатые исследования, да и отношения Советского Союза с Веймарской республикой оставались вполне лояльными. Но после прихода к власти нацистов все изменилось. Тимофеевы-Ресовские намеревались вернуться в СССР, но советское консульство в 1937 году отказалось продлевать им паспорта (они так и остались гражданами СССР, не претендуя на германское гражданство). В это время Николай Владимирович получил настоятельные предупреждения от Н.К. Кольцова и Н.И. Вавилова о том, что возвращаться в страну Советов небезопасно. Он и сам понимал, что происходило в те годы на Родине. Достаточно сказать, что трое его братьев были арестованы и двое из них погибли в годы «большого террора». Нетрудно догадаться, что ждало бы Тимофеевых, если бы они все-таки решились на возвращение домой. А в 1940 году был арестован и сам Николай Иванович Вавилов, погибший впоследствии от голода в тюрьме. Кольцов же внезапно скончался в Ленинграде, будучи отравлен агентом НКВД.
«Я всю жизнь делал всегда то, что хотел, и не изображал из себя какую-то фигуру, которая страдает оттого, что ее заставляют все время делать не то, что ей хочется. Таких страдающих людей вокруг меня до сих пор до черта. Их все угнетает, их все угнетают, и они принуждены, видите ли, заниматься не тем, чем хотели бы. …Просто они лентяи, потому что быть 24 часа в сутки занятым делами не теми, которыми хочешь заниматься, — это значит, что ты бездельник. Вообще-то говоря, обычно так бывает: ежели человек не бездельник, он не занят 24 часа в сутки, а занят много меньше и делает то, что он хочет делать, а то, чего не хочет делать, не делает. И тогда он живет более или менее нормальной жизнью даже в самых ненормальных условиях».
Н.В. Тимофеев-Ресовский. «Воспоминания»
(1993 г.)
Всю войну семья Тимофеевых-Ресовских оставалась в Германии. Так они стали вынужденными эмигрантами. Некоторые современники, да порой и современные «знатоки» ставят это пребывание в нацистской Германии в вину Тимофееву-Ресовскому. Мол, как же так, жили и работали в стране, которая вела войну с СССР. Но здесь нужно помнить, что, во-первых, Тимофеев-Ресовский оставался гражданином СССР и к тому же имел огромный международный авторитет, а, во-вторых, сам Николай Владимирович, как мог, помогал остарбайтерам. Его старший сын Дмитрий и вовсе вступил в подпольную организацию Сопротивления, был арестован гестапо и погиб в концлагере. После освобождения Германии Тимофеев-Ресовский сохранил институт в зоне советской оккупации и даже был назначен советской военной администрацией новым директором Института мозга. Все это свидетельствует об абсолютно безупречном поведении Николая Владимировича и всей его семьи в годы гитлеровской диктатуры.
Научные же исследования не прерывались. Тимофеев-Ресовский продолжил начатые еще в советской России исследования по специфике и изменчивости проявления генов в фенотипе (что, кстати, открывало перспективы и в области медицины). А после открытия в 1927 году Г. Мёллером мутагенного эффекта радиации лаборатория Тимофеева-Ресовского развернула исследования по радиационному мутагенезу, вершиной которых стало создание так называемой теории мишени. На основе многочисленных экспериментов был построен график линейной зависимости частоты мутаций от дозы облучения.
В 1935 году биофизический анализ мутационного процесса был представлен Тимофеевым-Ресовским в совместной публикации с двумя другими учеными его школы К. Циммером и М. Дельбрюком «О природе генных мутаций и структуре гена». Она получила в научной среде неофициальное название «зеленая тетрадь» и во многом легла в основу будущей молекулярной биологии. Именно Тимофееву-Ресовскому и его группе принадлежит обоснование представления о гене как о молекуле. «Зеленая тетрадь» вдохновила великого физика Эрвина Шрёдингера на написание своей знаменитой книги «Что такое жизнь с точки зрения физики». Несмотря на то что последующие исследования уточнили существенные детали мутационного процесса, теория мишени сохранила свое эвристическое значение и осталась важным этапом в истории генетики.
В 1935 году биофизический анализ мутационного процесса был представлен Тимофеевым-Ресовским в совместной публикации с двумя другими учеными его школы К. Циммером и М. Дельбрюком «О природе генных мутаций и структуре гена». Она получила в научной среде неофициальное название «зеленая тетрадь» и во многом легла в основу будущей молекулярной биологии. Именно Тимофееву-Ресовскому и его группе принадлежит обоснование представления о гене как о молекуле. «Зеленая тетрадь» вдохновила великого физика Эрвина Шрёдингера на написание своей знаменитой книги «Что такое жизнь с точки зрения физики». Несмотря на то что последующие исследования уточнили существенные детали мутационного процесса, теория мишени сохранила свое эвристическое значение и осталась важным этапом в истории генетики.
«В один прекрасный день оказалось, что мне в качестве нового научного сотрудника Kaiser Wilhelm Institut’а нужно явиться с визитом в Kaiser Wilhelm Gesellschaft, в президиум, представиться президенту, знаменитому старцу фон Харнаку… а он был эллинист по профессии… Старик оказался совершенная душка! И заговорил со мной по-русски. Он, оказывается… из балтийских немцев, кончил университет в Юрьеве, Тарту по-теперешнему, по-немецки — Дерпт. Так что вместо положенных десяти минут аудиенции я у него просидел целый час. …Пили мы с ним кофей и трепались по-русски обо всем. Он говорит: “Я бы не пережил… Вы, я вижу, хорошо пережили революцию”. Я говорю: “Ничего. Более или менее здоров и понимаю, что к чему. Так можно пережить и две революции”. Но тогда-то я не знал, что революцию пережить — это каждый дурак может, а вот сталинизм пережить — гораздо труднее».
Н.В. Тимофеев-Ресовский «Воспоминания» (1993 г.)
Другим значимым результатом стало создание теории микроэволюции. Новым материалом для изучения генетики популяций (наряду с «традиционной» дрозофилой) стали для ученого божьи коровки (ими в свое время занимался и Ф.Г. Добржанский). Тимофеев-Ресовский, по словам выдающегося биолога-эволюциониста Н.Н. Воронцова, стремился выделить элементарные, далее не членимые акты в эволюционном процессе. В этом сказалось и влияние великого физика Нильса Бора, с которым Тимофеев-Ресовский активно общался в 1930-х годах. Наряду
с Ф.Г. Добржанским Николая Владимировича можно считать одним из создателей синтетической теории эволюции. В 1939 году вышла его монографическая статья «Генетика и эволюция», а затем он принял участие в двух фундаментальных коллективных работах «Новая систематика» (1940) под редакцией английского биолога Джулиана Хаксли (где написал раздел «Мутации и географическая изменчивость») и «Эволюция организмов. Достижения и проблемы
эволюционного учения» (1943) под редакцией Герхарда Хеберера (глава «Генетика и эволюционные исследования на животных», написанная совместно с Г. Бауэром). В советской же науке впервые синтетическая теория эволюции в обобщенном виде была представлена в статье Тимофеева-Ресовского «Микроэволюция, элементарные явления, материал и факторы эволюционного процесса», опубликованной в 1958 году в период возрождения генетики после лысенковского безвременья.
с Ф.Г. Добржанским Николая Владимировича можно считать одним из создателей синтетической теории эволюции. В 1939 году вышла его монографическая статья «Генетика и эволюция», а затем он принял участие в двух фундаментальных коллективных работах «Новая систематика» (1940) под редакцией английского биолога Джулиана Хаксли (где написал раздел «Мутации и географическая изменчивость») и «Эволюция организмов. Достижения и проблемы
эволюционного учения» (1943) под редакцией Герхарда Хеберера (глава «Генетика и эволюционные исследования на животных», написанная совместно с Г. Бауэром). В советской же науке впервые синтетическая теория эволюции в обобщенном виде была представлена в статье Тимофеева-Ресовского «Микроэволюция, элементарные явления, материал и факторы эволюционного процесса», опубликованной в 1958 году в период возрождения генетики после лысенковского безвременья.
В сентябре 1945 году Тимофеев-Ресовский был арестован в Берлине, перевезен в Москву и очутился во внутренней тюрьме НКГБ, где сидел в одной камере с А.И. Солженицыным. В 1946 году Военной коллегией Верховного суда РСФСР он как изменник Родины был приговорен к 10 годам заключения и еще к пяти годам поражения в правах. Великий ученый отправился в печально известный Карлаг — Карагандинский лагерь, откуда в 1947 году его, умиравшего от голода, перевели в Челябинскую область на секретный объект для работы по радиационной безопасности. Такое «милосердие» имело вполне прозаическое объяснение: Советский Союз занимался созданием атомной бомбы, и специалист по радиационной генетике оказался нужен ядерному проекту.
«После того как Тимофеев-Ресовский стал научным членом Общества кайзера Вильгельма, министр науки Германии Бернхард Руст предложил ему в июле 1938 года принять германское гражданство. Тимофеев-Ресовский вежливо отказался: “Я родился русским и не вижу возможности это изменить”. Он всегда оставался русским патриотом…»
М. Раевский,
немецкий врач и биолог, сын русских эмигрантов. «Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский» (2016 г.)
Тимофеев-Ресовский был освобожден из заключения в 1951 году, а через четыре года амнистирован, но и после этого ему было запрещено постоянно проживать в Москве и Ленинграде. Реабилитация Тимофеева-Ресовского состоялась уже после его смерти, в 1992 году.
В 1955–1964 годах Николай Владимирович руководил отделом биофизики в Институте биологии Уральского филиала АН СССР в Свердловске и читал лекции в Уральском университете. На озере Большое Миассово в Ильменском заповеднике он организовал биостанцию, где проводил свои знаменитые «летние школы». Ему, всемирно признанному ученому, дважды пришлось защищать докторскую диссертацию, причем вторая защита состоялась уже после того, как в 1959 году Германская академия естествоиспытателей «Леопольдина» вручила ему плакетку Дарвина в связи со 100-летним юбилеем выхода в свет дарвиновского «Происхождения видов». Он был членом многих зарубежных академий, за исключением Академии наук СССР.
В 1955–1964 годах Николай Владимирович руководил отделом биофизики в Институте биологии Уральского филиала АН СССР в Свердловске и читал лекции в Уральском университете. На озере Большое Миассово в Ильменском заповеднике он организовал биостанцию, где проводил свои знаменитые «летние школы». Ему, всемирно признанному ученому, дважды пришлось защищать докторскую диссертацию, причем вторая защита состоялась уже после того, как в 1959 году Германская академия естествоиспытателей «Леопольдина» вручила ему плакетку Дарвина в связи со 100-летним юбилеем выхода в свет дарвиновского «Происхождения видов». Он был членом многих зарубежных академий, за исключением Академии наук СССР.
В 1964–1969 годах Тимофеев-Ресовский возглавлял отдел радиобиологии и генетики в Институте медицинской радиологии, который находился в наукограде Обнинске. Уволенный оттуда, он стал научным консультантом Института медико-биологических проблем Академии медицинских наук СССР, где занимался вопросами космической биологии. Несмотря на все внешние трудности жизни, Николай Владимирович создал всемирно признанную научную школу генетиков-эволюционистов.
Николай Тимофеев-Ресовский скончался 28 марта 1981 года в Обнинске, так и не сломленный трагическими катастрофами XX века.
Николай Тимофеев-Ресовский скончался 28 марта 1981 года в Обнинске, так и не сломленный трагическими катастрофами XX века.
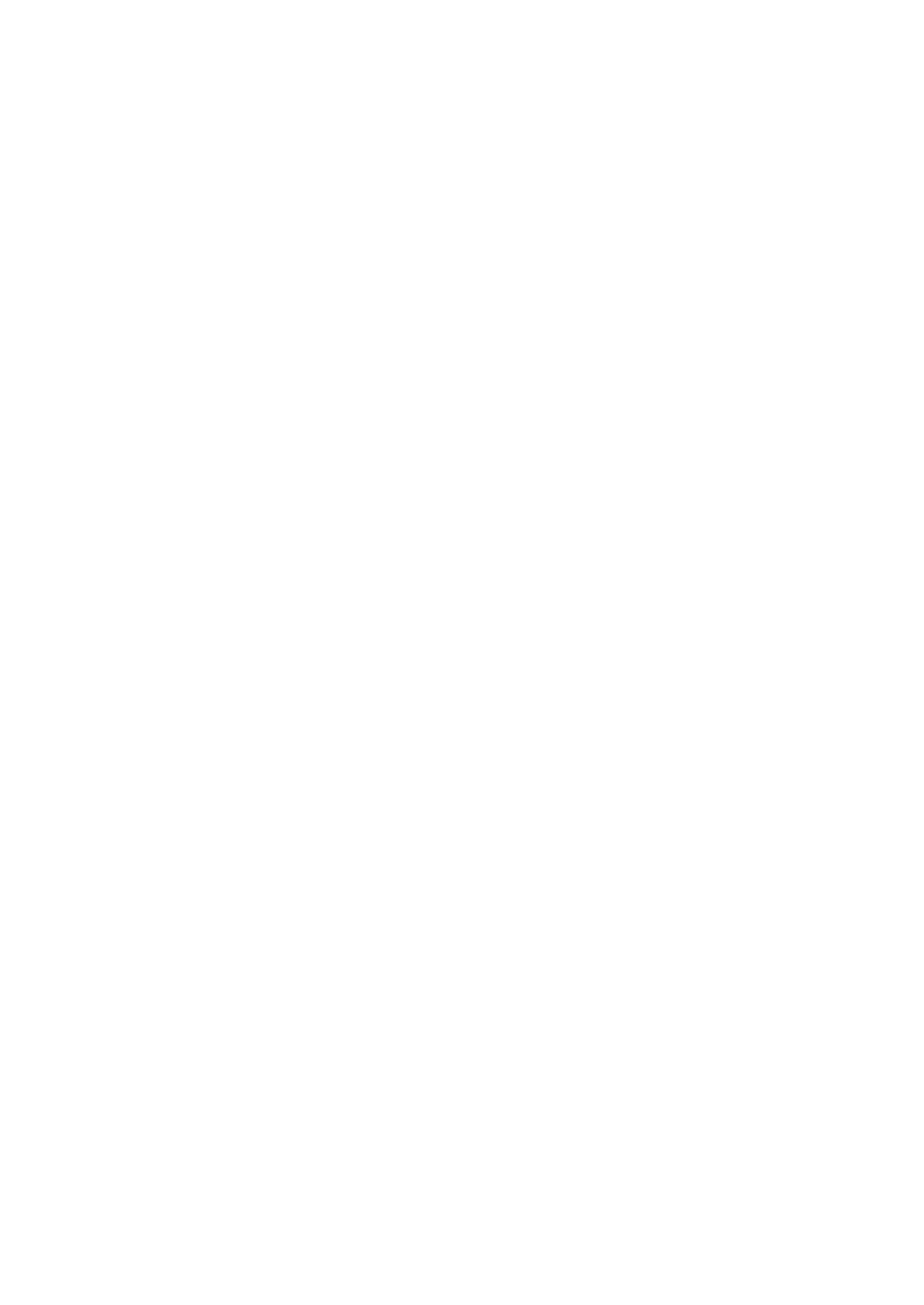
Гамбургское затишье
С 1925 года Н.В. Тимофеев-Ресовский жил в Германии, приехав туда по приглашению О. Фогта, директора берлинского Института мозга