«Маленький человек» с Монпарнаса
Хаим Соломонович Сутин
(1893–1943)
(1893–1943)
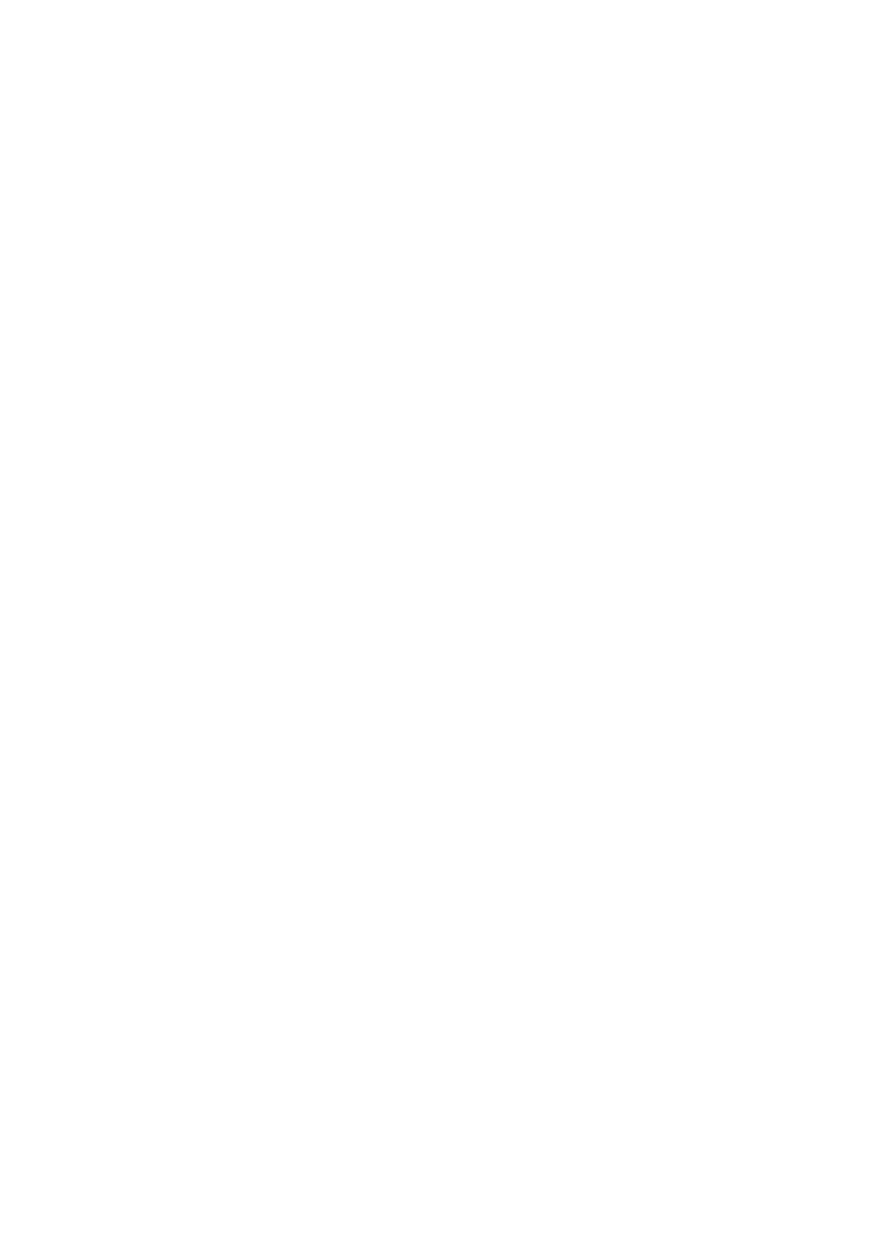
По дороге в мастерскую на Монмартре
В Париже художник оказался в 1913 году, незадолго до начала Первой мировой войны
В Париже художник оказался в 1913 году, незадолго до начала Первой мировой войны
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
1 (13) января 1893 г. — родился в местечке Смиловичи Минской губернии
1909 г. — учился в Вильно
1913 г. — переехал в Париж, обучался в ателье Кормона
1918–1925 гг. — в течение семи лет жил на Юге Франции, где создал около 200 полотен
1927 г. — первая персональная выставка в галерее Парижа
1935 г. — участвовал в выставке в Чикаго и других городах США
1939 г. — после оккупации Парижа бежал на юг Франции
1941 г. — скрывался в Шампиньи
9 августа 1943 г. — скончался после неудачной операции в Париже, похоронен на кладбище Монпарнас
1 (13) января 1893 г. — родился в местечке Смиловичи Минской губернии
1909 г. — учился в Вильно
1913 г. — переехал в Париж, обучался в ателье Кормона
1918–1925 гг. — в течение семи лет жил на Юге Франции, где создал около 200 полотен
1927 г. — первая персональная выставка в галерее Парижа
1935 г. — участвовал в выставке в Чикаго и других городах США
1939 г. — после оккупации Парижа бежал на юг Франции
1941 г. — скрывался в Шампиньи
9 августа 1943 г. — скончался после неудачной операции в Париже, похоронен на кладбище Монпарнас
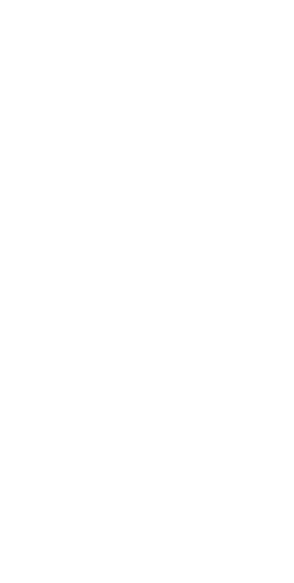
Х.С. Сутин. 1920-е гг.
В созвездии легендарной «парижской школы» немало известных и почитаемых русских имен, а также художников других национальностей, родившихся и живших на обширной территории Российской империи. По-разному сложились судьбы русских парижан, разными были и мотивы их эмиграции на Запад: у одних — несовместимость с революционной реальностью, у других — стремление оказаться в самом передовом и «горячем» контексте мирового искусства, у третьих… Наверное, именно к третьей группе относился представитель «парижской школы» живописи Хаим Сутин. Он не был политическим эмигрантом, так как прибыл в Париж задолго до революции — в 1913 году, второй мотив, вероятно, тоже отсутствовал (во всяком случае, не до конца прояснен биографами). Просто он хотел стать настоящим художником и видел свое творческое будущее за пределами отсталого белорусского местечка, где ему суждено было появиться на свет.
Хаим Соломонович Сутин родился 1 (13) января 1893 года в Смиловичах Минской губернии в семье портного, занимавшегося починкой старой одежды для таких же, как он, бедолаг. В семье было 11 детей, и значит, столько же постоянно голодных ртов. Среда, где рос Сутин, была патриархально-иудейской, ничуть не склонной потакать занятиям искусством. Благодаря упорству и находчивости, а также безошибочно осознанному призванию будущий художник в 1907 году уехал учиться в Минскую рисовальную школу. Там же он устроился на работу ретушером, был учеником фотографа. Через год со своим другом Михаилом Кикоиным он отправился в Вильно (нынешний Вильнюс), где продолжил обучение в Школе изящных искусств И.П. Трутнева. Эти обрывочные знания и приобретенные ремесленные навыки Сутин пополнял, укреплял и воплощал в полотна уже в Париже. Здесь он поступил в Академию изящных искусств Ф. Кормона. Но главными его «университетами» стали художественные собрания Лувра и Люксембургского музея, современные выставки, открытые двери мастерских новых друзей и коллег. Жил он на Монпарнасе, водил короткие знакомства с местной богемой в знаменитом «Улье», который тогда представлял собой своеобразную артистическую коммуну, состоявшую из 140 ателье-студий и созданную в 1902 году меценатом и скульптором Альфредом Буше. Затем Сутин перебрался в общежитие художников «Сите» в 15-м округе Парижа, где особенно близко сошелся с такими представителями парижской многоязычной богемы, как Модильяни, Пикассо, Шагал, Воробьева-Стебельская (Маревна), Липшиц, Цадкин и другими, хотя оставался по-прежнему человеком замкнутым, малообщительным, подчеркнуто обособленным.
На многих производил незабываемое впечатление сам облик художника. Встречавшийся с ним в свой парижский период жизни будущий советский живописец Роберт Фальк находил его чудаковатым и странным, выделяя в его облике глаза: «красивые, горячие, человеческие». Еще долго Сутин оставался тщедушным, мрачным и нелюдимым, хотя времена голодной, полной лишений жизни остались позади. И трагическое мироощущение не покидало его. Он уже успешно выставлялся, работы его заслуженно котировались на художественном рынке, его знали ценители и критики. Но он по-прежнему вел скромный и размеренный, богемно-безбытный образ жизни, целиком сосредоточенный на искусстве, на навязчивой идее перфекционизма.
Хаим Соломонович Сутин родился 1 (13) января 1893 года в Смиловичах Минской губернии в семье портного, занимавшегося починкой старой одежды для таких же, как он, бедолаг. В семье было 11 детей, и значит, столько же постоянно голодных ртов. Среда, где рос Сутин, была патриархально-иудейской, ничуть не склонной потакать занятиям искусством. Благодаря упорству и находчивости, а также безошибочно осознанному призванию будущий художник в 1907 году уехал учиться в Минскую рисовальную школу. Там же он устроился на работу ретушером, был учеником фотографа. Через год со своим другом Михаилом Кикоиным он отправился в Вильно (нынешний Вильнюс), где продолжил обучение в Школе изящных искусств И.П. Трутнева. Эти обрывочные знания и приобретенные ремесленные навыки Сутин пополнял, укреплял и воплощал в полотна уже в Париже. Здесь он поступил в Академию изящных искусств Ф. Кормона. Но главными его «университетами» стали художественные собрания Лувра и Люксембургского музея, современные выставки, открытые двери мастерских новых друзей и коллег. Жил он на Монпарнасе, водил короткие знакомства с местной богемой в знаменитом «Улье», который тогда представлял собой своеобразную артистическую коммуну, состоявшую из 140 ателье-студий и созданную в 1902 году меценатом и скульптором Альфредом Буше. Затем Сутин перебрался в общежитие художников «Сите» в 15-м округе Парижа, где особенно близко сошелся с такими представителями парижской многоязычной богемы, как Модильяни, Пикассо, Шагал, Воробьева-Стебельская (Маревна), Липшиц, Цадкин и другими, хотя оставался по-прежнему человеком замкнутым, малообщительным, подчеркнуто обособленным.
На многих производил незабываемое впечатление сам облик художника. Встречавшийся с ним в свой парижский период жизни будущий советский живописец Роберт Фальк находил его чудаковатым и странным, выделяя в его облике глаза: «красивые, горячие, человеческие». Еще долго Сутин оставался тщедушным, мрачным и нелюдимым, хотя времена голодной, полной лишений жизни остались позади. И трагическое мироощущение не покидало его. Он уже успешно выставлялся, работы его заслуженно котировались на художественном рынке, его знали ценители и критики. Но он по-прежнему вел скромный и размеренный, богемно-безбытный образ жизни, целиком сосредоточенный на искусстве, на навязчивой идее перфекционизма.
«Внешне Сутин был некрасив: сутулый, с короткой шеей, втянутой в плечи, с крупными чертами лица и тяжелой челюстью, как у деревянной скульптуры, высеченной топором доисторического мастера. Копна жестких, тёмных волос, постриженных по-крестьянски в кружок, скрывала низкий лоб и большие оттопыренные уши. Выразительные, глубоко посаженные темные глаза под набрякшими, покрасневшими веками смотрели исподлобья».
М.Б. Воробьева-Стебельская (Маревна).
«Моя жизнь с художниками “Улья”» (1972 г.)
По наблюдениям Р.Р. Фалька, Сутин «жил очень замкнуто. Часто менял квартиры. Раньше, когда он был беден, его часто выгоняли из квартиры, так как он не мог заплатить, а потом у него вошло в привычку — переезжать… Однажды я зашел к нему около 12 часов дня. Дверь не заперта. В первой комнате открытый чемодан на полу и куча грязного белья в нем и около него. Во второй — прекрасный старинный стол черного дерева, три жестянки из-под консервов на нем и на полу. В третьей комнате роскошная кровать с грязным-прегрязным кружевным бельем… Больше ничего из вещей… В мастерской ужасный хаос, этюдник грязный, всюду всякий хлам. Один красивый стул для портретов и ширма, на которую накалывались обои для фона…» Согласитесь, весьма неприглядное описание, но как среди этого беспорядка рождались дивные по свету и цвету полотна, за которые ценители платили большие деньги?
Надо сказать, что на путь успеха Сутина направили известные маршаны и коллекционеры, с которыми познакомили его коллеги. Хотя бы некоторых из них следует назвать. Поддержка торговца произведениями искусства Леопольда Зборовского позволила художнику недолгое, но плодотворное время жить и работать на побережье Средиземного моря. Затем покровителями мастера стала чета Кастенов, предоставившая ему новый приют близ Шартра. Немалое количество произведений Сутина приобрел американский коллекционер А. Барнс, что упрочило и материальный достаток, и славу живописца.
Через 20 лет его работы в разных жанрах живописи, в 1927 году, состоялась первая персональная выставка Сутина, в результате которой он приобрел известность, стал одним из самых загадочных и неоднозначных мастеров авангарда, хотя стилистически он был гораздо шире этого художественного явления. Сутин оказался более свободным по отношению к нему, к его основным принципам, мифам и кумирам.
Известно, что с самого начала парижской жизни Сутин проявлял стойкий интерес к классике. Конечно, он не избежал влияния таких авангардных течений, как экспрессионизм, фовизм, живописный примитив, но влияние традиции на художника было очевидным. Она, правда, трансформировались в нечто гиперболически-пародийное, упорно сопротивлявшееся привычной эстетике, выворачивавшее наизнанку законы прекрасного.
Через 20 лет его работы в разных жанрах живописи, в 1927 году, состоялась первая персональная выставка Сутина, в результате которой он приобрел известность, стал одним из самых загадочных и неоднозначных мастеров авангарда, хотя стилистически он был гораздо шире этого художественного явления. Сутин оказался более свободным по отношению к нему, к его основным принципам, мифам и кумирам.
Известно, что с самого начала парижской жизни Сутин проявлял стойкий интерес к классике. Конечно, он не избежал влияния таких авангардных течений, как экспрессионизм, фовизм, живописный примитив, но влияние традиции на художника было очевидным. Она, правда, трансформировались в нечто гиперболически-пародийное, упорно сопротивлявшееся привычной эстетике, выворачивавшее наизнанку законы прекрасного.
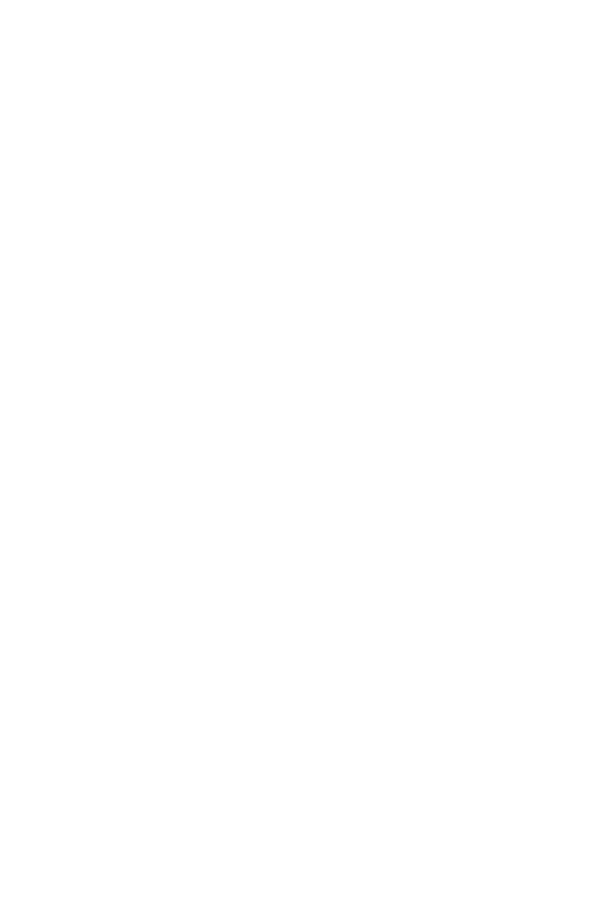
А. Модильяни. Портрет Хаима Сутина. 1916 г.
Традиционные жанры с каноническими сюжетами переосмысливались Сутиным с помощью таких радикальных выразительных средств, как антиэстетизм, дисгармония, хаотичность композиции, деформация фигур и предметов, внешняя асимметрия и дробность. Эта вывернутая наизнанку гармония давала мастеру возможность создавать собственные образы, воплощавшие «новую гармонию». Неслучайно он черпал вдохновение в музеях, травестируя поразившие его образы. Как утверждает ряд исследователей, в ход шли конкретные произведения и имена: Шарден, Фрагонар, Рембрандт, Курбе, Сезанн…
Все эти творческие идеи воплощались в мощной пастозной живописи, что создавало особый универсальный «сутинский» стиль. Говорят, за первый свой платный портрет юный художник был избит обескураженным заказчиком из еврейского местечка. Но, очевидно, в том раннем портрете еще просматривалось какое-то следование натуре, не чувствовался резкий отрыв от традиции. Понятны причины, по которым, гласит тот же рассказ, уже зрелый мастер стремился по возможности выкупить свои несовершенные работы, не выражавшие, на его взгляд, авторскую индивидуальность.
Все эти творческие идеи воплощались в мощной пастозной живописи, что создавало особый универсальный «сутинский» стиль. Говорят, за первый свой платный портрет юный художник был избит обескураженным заказчиком из еврейского местечка. Но, очевидно, в том раннем портрете еще просматривалось какое-то следование натуре, не чувствовался резкий отрыв от традиции. Понятны причины, по которым, гласит тот же рассказ, уже зрелый мастер стремился по возможности выкупить свои несовершенные работы, не выражавшие, на его взгляд, авторскую индивидуальность.
Самые ранние работы Сутина, где уже был явлен его стиль, — это натюрморты (1915–1917), которым он придавал большое значение. Они манифестируют тему трагизма бытия, рисуют образы жизни и смерти, отражают печаль художника от созерцания мертвой натуры. Сезанновский геометризм плоскости стола, доски, фоновой поверхности был необходим автору, чтобы создать нейтральную «сцену» для очередной натюрмортной драмы, особенно на темы убитых птиц и зверей. В этих скорбных образах чувствуется неотвязная мысль художника об уязвимости и беззащитности природы, о хрупкости всего живого. Самая устойчивая в этих полотнах пластическая коллизия — изображения бычьих туш, поражающая воображение кровавая, натуралистичная, отталкивающая мистерия обезображивающей все живое смерти.
Хрестоматийные натюрморты Сутина «Индейка и помидоры», «Мертвый заяц», «Заяц на зеленой доске» производят впечатление все же не до конца «мертвой» натуры. Художником запечатлены последние мгновения жизни убитых животных, воспроизведена их прощальная «реплика», как бы обращенная к зрителям. Автор символически изобразил ее в отчаянном оскале зайца, в приоткрытом клюве птицы, словно исторгающей жалобный звук, в напряженной удлиненности их тел, находящихся как будто в конвульсивном прыжке за пределы бытия. В других натюрмортах даже рыбы на холстах шевелят жабрами, раскрывают рты. В одном из подобных полотен внимание смотрящего сосредоточено на том, как извиваются от боли селедки. Сама живопись этих полотен стремительная, плотоядная, словно купающаяся в своей далеко не «мертвой» красоте, в удивительной динамике, парящей над условностью сюжета. Магия цвета, пластика предметности придают этим натюрмортам особую витальность и редкую экспрессию.
Хрестоматийные натюрморты Сутина «Индейка и помидоры», «Мертвый заяц», «Заяц на зеленой доске» производят впечатление все же не до конца «мертвой» натуры. Художником запечатлены последние мгновения жизни убитых животных, воспроизведена их прощальная «реплика», как бы обращенная к зрителям. Автор символически изобразил ее в отчаянном оскале зайца, в приоткрытом клюве птицы, словно исторгающей жалобный звук, в напряженной удлиненности их тел, находящихся как будто в конвульсивном прыжке за пределы бытия. В других натюрмортах даже рыбы на холстах шевелят жабрами, раскрывают рты. В одном из подобных полотен внимание смотрящего сосредоточено на том, как извиваются от боли селедки. Сама живопись этих полотен стремительная, плотоядная, словно купающаяся в своей далеко не «мертвой» красоте, в удивительной динамике, парящей над условностью сюжета. Магия цвета, пластика предметности придают этим натюрмортам особую витальность и редкую экспрессию.
«Неизменно в самом темном углу сидели Кремень и Сутин. У Сутина... были глаза затравленного зверя, может быть, от голода. Никто на него не обращал внимания. Можно ли было себе представить, что о работах этого тщедушного подростка, уроженца белорусского местечка Смиловичи, будут мечтать музеи всего мира?»
Э.Г. Эренбург. «Люди, годы, жизнь» (1960 г.)
В картинах художника не заметишь жизнерадостных интонаций, оптимистических настроений, полнокровных образов, не встретишь даже полуулыбок, радостных чувств. Весь портретный ряд Сутина можно назвать галереей образов «маленького человека», который никак не соотносится с одноименным «сквозным» персонажем русской литературы. Женщины, дети, мелкие служащие, а также персонализированные образы: мальчики из хора, коридорный, шафер, грум, мясник, кондитер — весь этот пестрый калейдоскоп персонажей Сутина сходен в одном: это люди незаметные и незначительные, взятые из какой-то «окраинной» жизни, познавшие на себе все ее невзгоды и тяготы. Да и сам художник, пожалуй, из самой гущи этой жизни, что вносит во многие его работы черты «автопортретности» и сближает их с собственно автопортретами Сутина.
«Об искусстве он [Сутин. — Прим. ред.] говорил с немногими, никогда — с посторонними или при них. Важно не чтó говорят, а ктó говорит. Чувствовалось, что то, что он говорит, самое для него нужное, его реальность, его любовь. Ценны не самые “умные” слова, а самые нужные. От него я слышал эти самые нужные слова».
Р.Р. Фальк «Беседы об искусстве» (1981 г.)
В образах «маленьких людей» Сутин всем своим мастерством и талантом, живописной пластикой, чудом красочной феерии как бы реабилитировал своих некрасивых, забитых персонажей, придавал им значительность, а их обликам запоминающееся своеобразие. С нижних ступенек социальной лестницы они уверенно поднимались в музейный пантеон современной живописи.
1920–1930-е годы были для Сутина плодотворными, наполненными интенсивной творческой работой. В 1937 году проходит выставка 12 картин художника в парижском музее Пти Пале. Но страшный катаклизм ХХ столетия помешал его самореализации, да и сократил саму жизнь художника.
1920–1930-е годы были для Сутина плодотворными, наполненными интенсивной творческой работой. В 1937 году проходит выставка 12 картин художника в парижском музее Пти Пале. Но страшный катаклизм ХХ столетия помешал его самореализации, да и сократил саму жизнь художника.
Как гражданин Франции Сутин с болью в сердце воспринял немецкую оккупацию Парижа. Он вынужден был покинуть мастерскую, какое- то прятался у друзей, работал в отдаленных уголках страны, куда еще не дотянулись щупальца гестапо. Ему, еврею, грозила смертельная опасность. По воспоминаниям современников, художник не хотел покидать Францию, надеялся переждать европейскую катастрофу. По другой версии, он предпринял попытку выехать в США, но она обернулась неудачей. В 1941 году на родине Сутина, в Белоруссии, в нацистском гетто погибли его родители, с которыми, впрочем, он почти не общался. В эти трагические дни художник раздает свои работы знакомым и даже малознакомым людям. Очевидно, он страшился, что его картины окажутся в руках гитлеровцев и будут уничтожены как образчики так называемого дегенеративного искусства. В это время обостряется язвенная болезнь художника. Из Нормандии, где он в это время скрывается, его тайно перевозят в закрытом катафалке (в этом есть что-то мистическое: как покойника) в Париж, но операция заканчивается летальным исходом. Сутин скончался 9 августа 1943 года. Художника похоронили на кладбище Монпарнас не только без подобающей трагическому событию торжественности, при минимальном числе провожавших, но и (в интересах безопасности) под чужим именем. Время, однако, расставило все по своим местам. Имя Сутина — выдающегося представителя «парижской школы» живописи — не забыто. А его сохранившиеся полотна обрели заслуженное место в музеях, на выставках и аукционах.
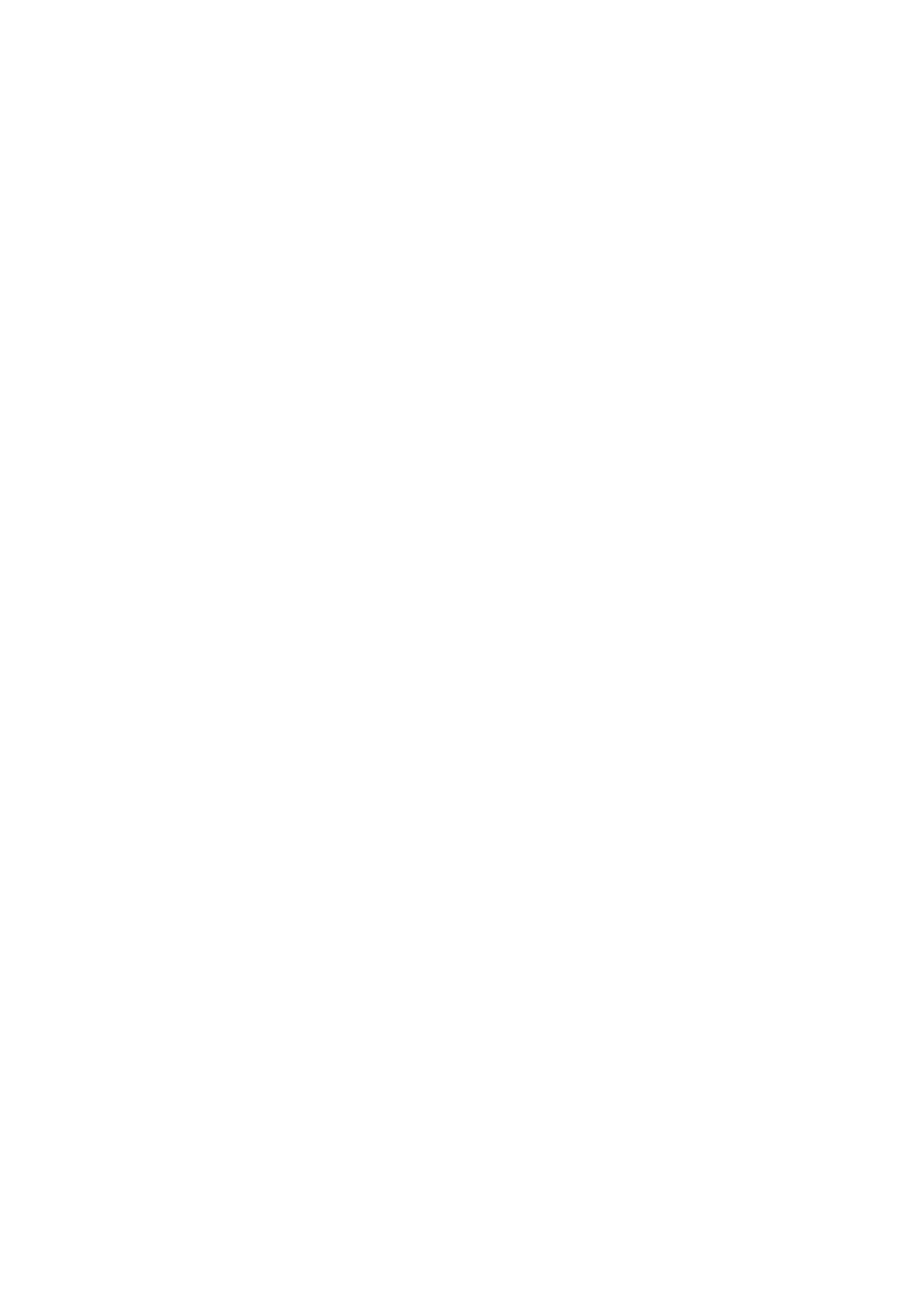
Париж — город-музей
Значительная часть жизни художника была связана с Парижем, где он жил в 1913–1918 годах и 1925–1939 годах, где прошла его первая выставка и где он завершил свой земной путь в дни нацистской оккупации