(1882–1965)
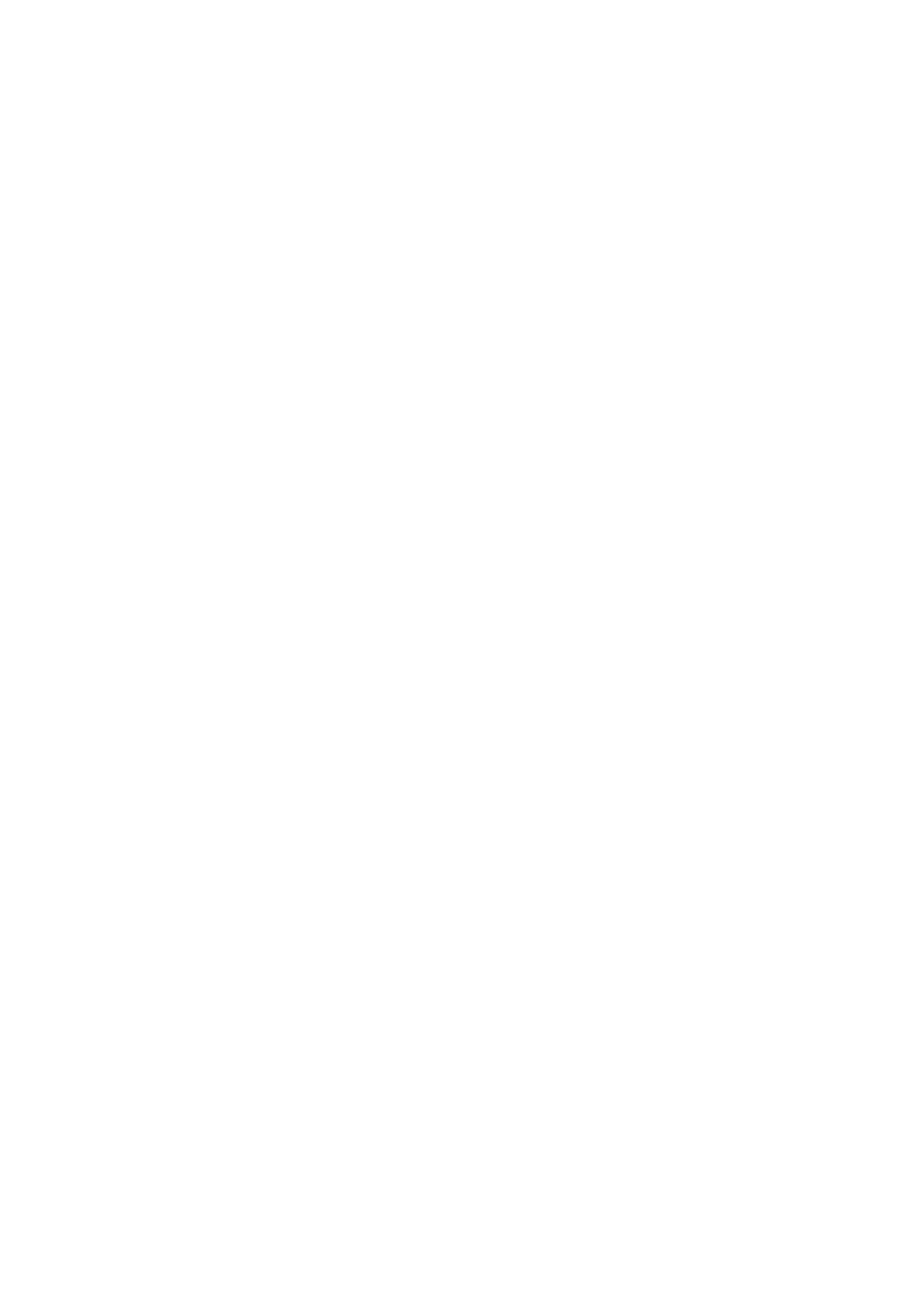
Над своим первым фильмом «Рейнеке-лис» В.А. Старевич работал более 10 лет
27 июля (8 августа) 1882 г. — родился в Москве
1886 г. — отправлен к родственникам в Ковно
1906 — женился на Анне Циммерман
1907 г. — рождение дочери Ирины
С 1910 г. работает у Александра Ханжонкова
1913 г. — рождение дочери Янины (Жанны), участвовавшей в его фильмах под псевдонимом Нина Стар
1918 г. — уехал из Москвы с последующей эмиграцией
С 1920 г. обосновался во Франции
1929–1939 гг. — работа над фильмом «Рейнеке-лис»
1947 г. — получил приз Венецианского кинофестиваля за фильм «Занзабель в Париже»
26 февраля 1965 г. — скончался в Париже
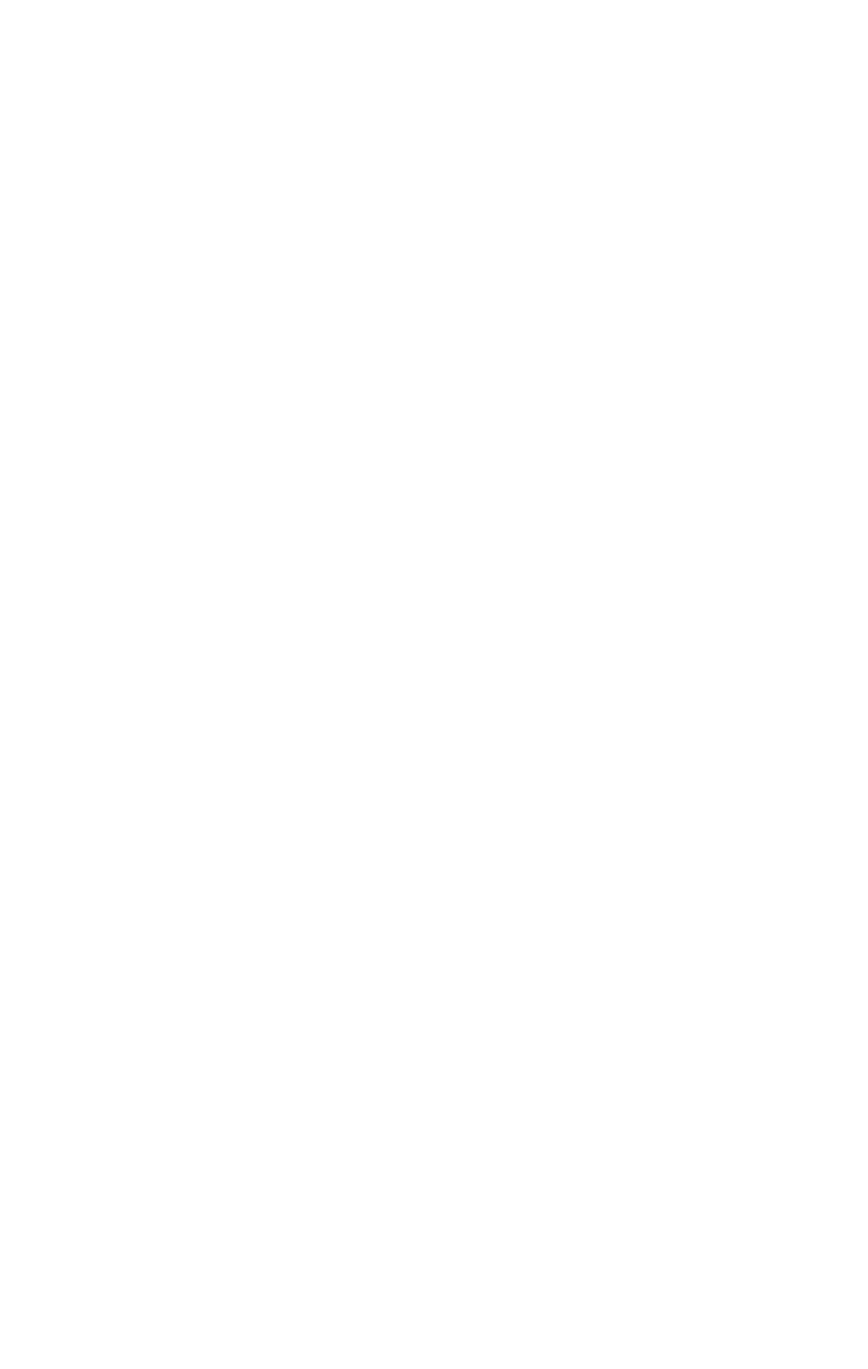
В.А. Старевич в своей мастерской. 1920-е гг.
Родился он в Москве в 1882 году в семье обедневших польских дворян. Его отец участвовал в Польском восстании за независимость 1863 года и был политическим беженцем. Мальчик рано потерял мать и воспитывался в семье ее родных в Ковно. Здесь он вырос и начал свою трудовую жизнь мелким чиновником казначейства. При этом он был городской знаменитостью как фотограф-любитель, карикатурист, художник, делающий яркие киноафиши и диковинные карнавальные костюмы для ежегодных балов.
Существует несколько версий того, как и в каком году Старевич пришел в кинематограф и начал сотрудничать с ведущим киномагнатом и предпринимателем Александром Ханжонковым, предоставившим ему квартиру при кинофабрике в Москве на Житной улице и соорудившим мастерскую для его строго засекреченных экспериментов. Вскоре Старевич завоевал положение незаменимого специалиста комбинированных и трюковых съемок, кинооператора, не знающего предела техническому мастерству, и еще декоратора, актера и режиссера. Человек с лицом сатира, высоколобый, с очень умными и недобрыми глазами, он держался особняком, был подчеркнуто по-польски вежливым, закрытым. Попасть на его острый карандаш автора шаржей было совсем не безопасно.
Этот, как его называли на кинофабрике, «алхимик», постоянно был занят: снимал, что-то изобретал, шил костюмы, рисовал декорации. Среди шести десятков поставленных им в России игровых фильмов есть экранизации, комедии, мелодрамы, фарсы, как у всех. Его авторским фильмами были сказки и фантасмагории, которые он снимал как оператор, художник, режиссер по произведениям Пушкина, Островского и более всего Гоголя. Целая экранная гоголиада из шести фильмов, начатая «Страшной местью», удостоенной Золотой медали Всемирной выставки в Милане! Актеры, пораженные его фантазией и мастерством, не раз встречали Старевича на съемочной площадке аплодисментами. Он же, скорее всего, не слишком любил игровое кино, но при этом многое в него привнес: съемки с движения, съемки на черном бархате, с помощью стеклянного шара; многократное (до тридцатидвухкратного) экспонирование.
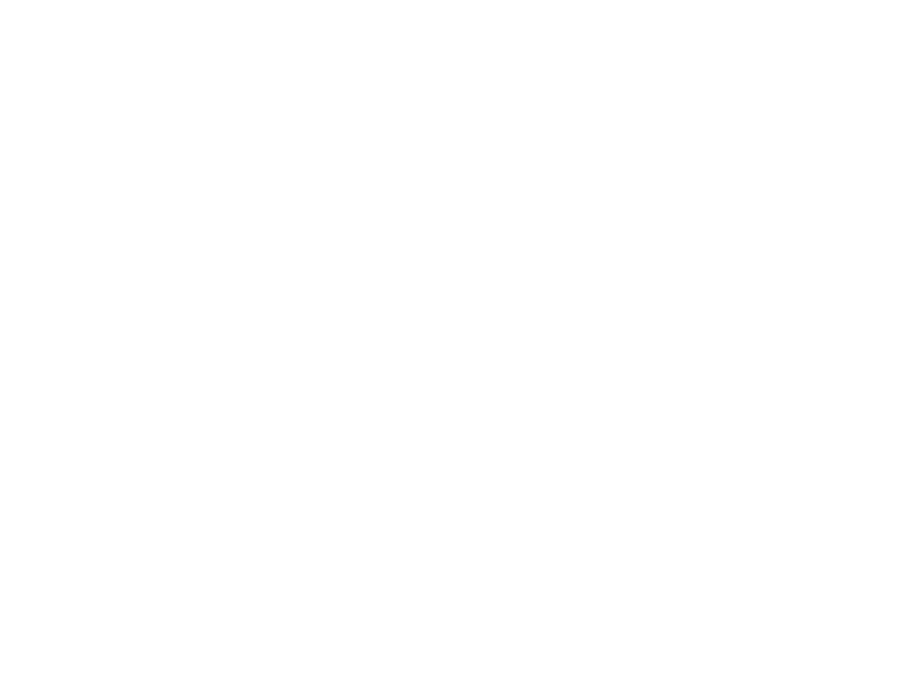
Леона Беатрис Мартин-Старевич. Из интервью «Радио Свобода». 17 ноября 2001 г.
Февральская революция 1917 года вернула Старевичу гражданское достоинство: в тридцать пять лет он получил польский паспорт. Октябрьский переворот, диктатуру большевиков Старевич не принял и уехал сначала в Крым, где снова работал у Ханжонкова, а в 1919 году — в Италию по приглашению фирмы «Икарус-фильм». Однако в благодатной этой стране надолго не задержался и в 1921 году перебрался в Париж.
Любовью, взаимопониманием, духовной близостью, трудом-творчеством этого уникального семейного клана было создано около тридцати мультипликационных фильмов и еще два добрых десятка рекламных сюжетов. Сперва немые и черно-белые, затем звуковые и цветные, наконец один из первых в мире полнометражных мультипликационных фильмов и неизменно все — рукотворные. Неудивительно, что Старевич отказался переехать в Америку и стать «вторым Диснеем», понимая, что там его творчество превратится в конвейерное производство, пусть и по самым высоким стандартам. Он ведь был европеец по крови, духу, поляк, вскормленный русской культурой, талант которого по-новому расцвел во Франции.
Здесь он наконец смог сосредоточиться на самом любимом и самом главном —мультипликации. Он был свободен в выборе жанра, темы, зрительской аудитории, для которой снимал. Первый фильм, сделанный во Франции, «В лапах паука» — образец пародийного кино, где сюжет и стиль отсылают к французской классической мелодраме, к «Даме с камелиями» и еще к невероятно популярному тогда «Фантомасу». Это для взрослого зрителя. Но его любимый адресат — дети, для которых он сочинял на экране одну сказку за другой: по Перро, Андерсену, историям собственного сочинения. «Глаза дракона» и «Волшебные часы», «Маленький парад» и «Песнь соловья» (Золотая медаль Гуго Розенфельда, США). В фантастическое пространство этих фильмов Старевич допускал только одно живое существо — ребенка, младшую дочь Нину Стар, действительно свою звезду. Вместе с ней он устраивал показы в русском детском клубе «Золушка», благотворительные сеансы в поддержку русского молодежного движения, выставки кукол.
«...Пьеса готова и ее показывают на экране, <…> с удивлением видишь, как разрешилось вдруг колдовство, тяготевшее над уснувшими героями г. Старевича, и как они, внезапно пробудившись, зажили той таинственной чудной сказочной жизнью, которую мы в раннем детском возрасте так близко, так ярко знали и чувствовали у Перро, Андерсена, у Мамина-Сибиряка».
А.И. Куприн. Из публикации «Старевич в воспоминаниях». Журнал «Искусство кино».
№ 12, 1999 г.
Собрание гравюр Гранвиля «Сцены частной и общественной жизни животных» было настольной книгой режиссера во время работы. Лис и Львица, Лев и Пес, Кот и Ворон были представлены куклами разных размеров, некоторые в рост человека. А куклы-люди рядом, не более десяти сантиметров, были маленькими, невыразительными, где-то на общих планах. Крупных планов удостоились животные, живые, подвижные, в роскошных средневековых костюмах, «играющие» чуть-чуть стилизованно, под русскую психологическую драму.
Из воспоминаний И.В. Старевич, опубликованных в статье Н.И. Нусиновой «Волшебник из Фонтанэ» (2001 г.)
В годы оккупации Франции нацистской Германией Старевич мог заниматься только рекламными сюжетами. Снова он вернулся к мультипликации уже в 1946 году. И вернулся с успехом: фильм «Занзабель в Париже» (1947) был награжден призом на кинофестивале в Венеции, и там же первого приз удостоился фильм «Цветок папоротника» (1949). В 1950-е годы ежегодно появлялся новый фильм Старевича. Последний датирован 1958 годом и называется «Северная карусель».
В Советской России из всей коллекции мультипликационных фильмов, снятых до эмиграции, идеологический контроль прошел один детский — «Сон куклы» (1912): «Фильм представляет большой интерес как с точки зрения фильмоведения, так и проката. Мешает присутствие непременных атрибутов “святочной обрядности” (елка). Но все же при некоторой переработке фильм имеет смысл выпустить в прокат». Из фильмов эмигрантского периода в 1920-е годы на советских экранах шли: «В лапах паука», «Пугало» и с особым успехом «Черно-белая любовь» — пародия на любимцев советского зрителя Чаплина, Пикфорд, Фэрбенкса. Да еще двадцать лет спустя, в 1943 году, в оккупированном русском старинном городе Гдов на экран проскочили «Мышь полевая и мышь городская», на сеанс, организованный для детей немецкими властями. Между прочим, фильм 1925 года.
Это все подтверждение тому, что для искусства Владислава Старевича не существует временных границ, также как — географических, социальных, идеологических. Одно слово — киноклассика, вечная, планетарная, общечеловеческая.
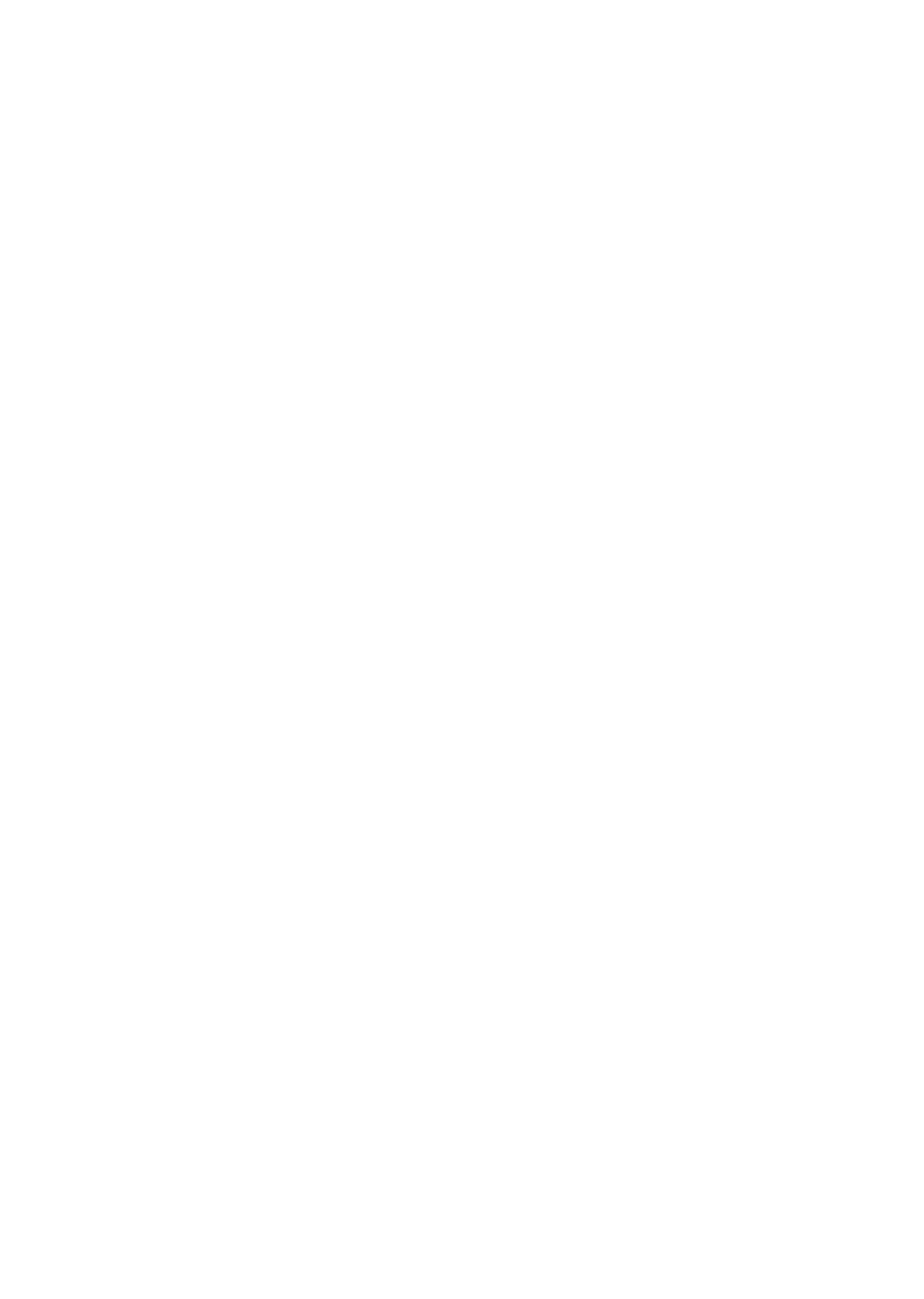
Карнавал закончился
Не здесь ли, на улицах Парижа, великий мультипликатор черпал свое вдохновение?