Жил не по лжи
Александр Исаевич Солженицын (1918–2008)
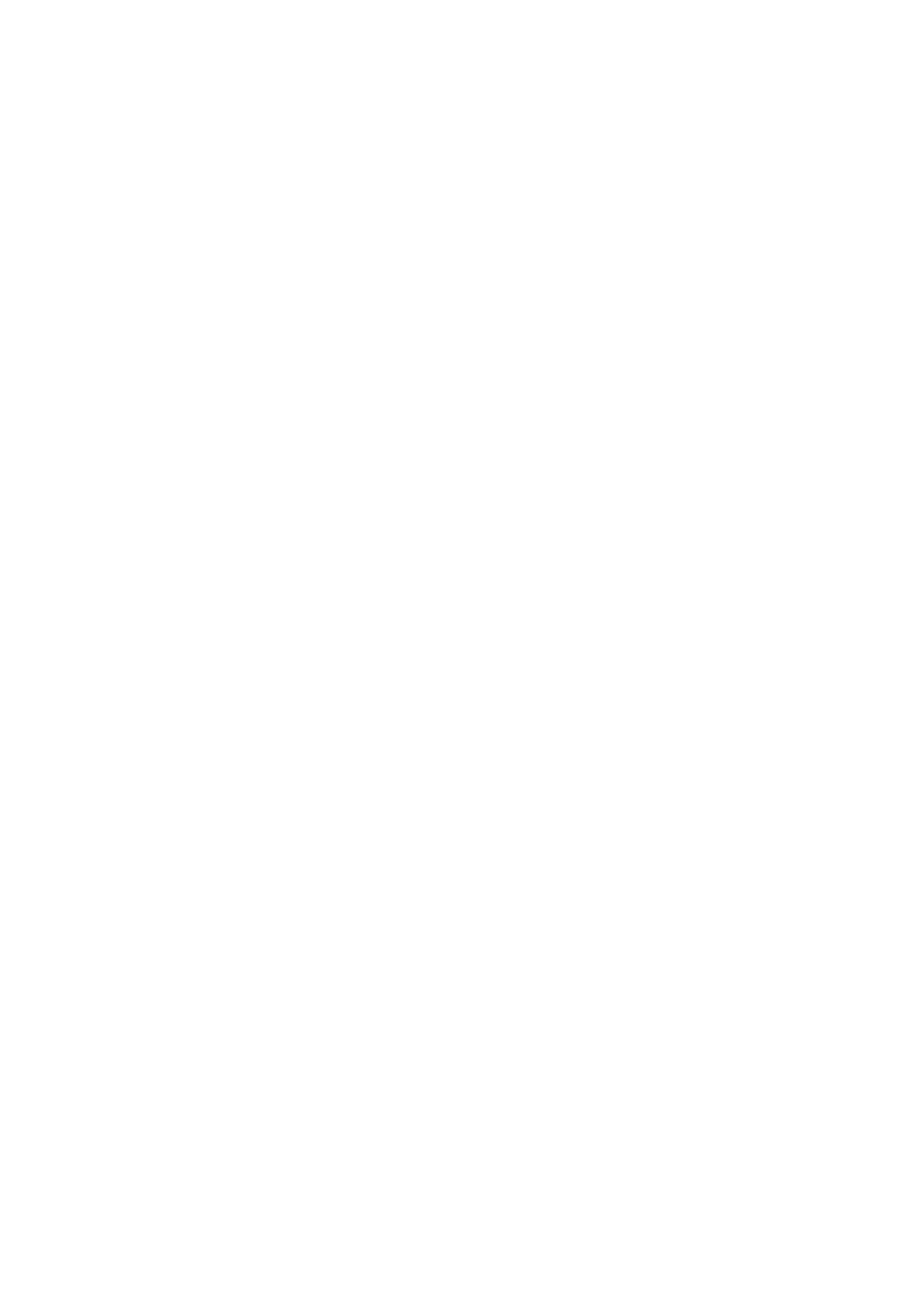
Победивший стены казематов
А.И. Солженицын в общей сложности провел в заключении — тюрьмах и лагерях — более восьми лет. Этот тяжелый период своей жизни он впоследствии запечатлел в ряде произведений
А.И. Солженицын в общей сложности провел в заключении — тюрьмах и лагерях — более восьми лет. Этот тяжелый период своей жизни он впоследствии запечатлел в ряде произведений
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
11 декабря 1918 г. — родился в Кисловодске
1941—1945 гг. — служба в армии на фронте
1945 г. — арест на фронте в Восточной Пруссии
1953 г. — отправлен в ссылку в Казахскую ССР
1957 г. — возвращение; реабилитация Военной коллегией Верховного суда СССР
1962 г. — публикация в «Новом мире» повести «Один день Ивана Денисовича»
1965—1968 гг. — написание романа «Архипелаг ГУЛАГ»
Май 1967 г. — открытое письмо Съезду советских писателей
1970 г. — Нобелевская премия по литературе
1974 г. — лишение советского гражданства, высылка из СССР
1994 г. — возвращение на Родину
3 августа 2008 г. — скончался в Москве, похоронен в некрополе Донского монастыря
11 декабря 1918 г. — родился в Кисловодске
1941—1945 гг. — служба в армии на фронте
1945 г. — арест на фронте в Восточной Пруссии
1953 г. — отправлен в ссылку в Казахскую ССР
1957 г. — возвращение; реабилитация Военной коллегией Верховного суда СССР
1962 г. — публикация в «Новом мире» повести «Один день Ивана Денисовича»
1965—1968 гг. — написание романа «Архипелаг ГУЛАГ»
Май 1967 г. — открытое письмо Съезду советских писателей
1970 г. — Нобелевская премия по литературе
1974 г. — лишение советского гражданства, высылка из СССР
1994 г. — возвращение на Родину
3 августа 2008 г. — скончался в Москве, похоронен в некрополе Донского монастыря
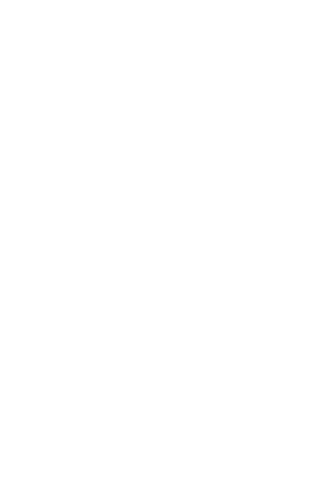
А.И. Солженицын. 1966 г.
Из девяноста лет жизни, отпущенных судьбой великому русскому писателю, двадцать лет он провел в вынужденном изгнании. Но это ничего не значит. Для некоторых авторов перемена страны пребывания требует кардинального обновления позиции, но не для Солженицына! Он настолько укоренен в своей теме (Россия и место ее в катастрофах мировых войн), настолько занят этой трагедией, что неважно, где стоит его письменный стол: в Цюрихе, Кавендише или Троице-Лыкове…
Хотя все эти переезды-перебросы превращают внешнюю биографию Солженицына в непрерывный приключенческий роман.
Физико-математическое образование, полученное в Ростове-на-Дону параллельно с курсами легендарного московского Институт философии, литературы и искусства (ИФЛИ), прервано войной. Фронтовые будни прерваны арестом, лагерным заключением и ссылкой в Среднюю Азию — на «вечное поселение», которое прервано триумфальным литературным дебютом. Первые рассказы: «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» опубликованы А.Т. Твардовским с разрешения самого Н.С. Хрущева. По глубине и мастерству эти рассказы непревзойденны и входят, как я убежден, в золотой фонд русской и мировой классики. Но не они, как выясняется, определяют очередные броски и кувырки внешней судьбы автора. Определяют автобиографические романы «Раковый корпус» и «В круге первом» (выдержанные, по ироническому определению одного американского критика, совершенно в стиле социалистического реализма, но с крутой переменой плюсов на минусы и минусов на плюсы). И, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ» (зафиксировавший историю внутреннего советского лагерного террора, как отразилась она в сознании народа). Затем — повесть «Бодался теленок с дубом» (интересная в том числе и сведением литературных счетов). И наконец —многотомный объясняющий драму революции роман «Красное колесо», который нельзя дочитать (потому что он так и не закончен). Но привело это колесо к разрыву с властями и к изгнанию.
Хотя все эти переезды-перебросы превращают внешнюю биографию Солженицына в непрерывный приключенческий роман.
Физико-математическое образование, полученное в Ростове-на-Дону параллельно с курсами легендарного московского Институт философии, литературы и искусства (ИФЛИ), прервано войной. Фронтовые будни прерваны арестом, лагерным заключением и ссылкой в Среднюю Азию — на «вечное поселение», которое прервано триумфальным литературным дебютом. Первые рассказы: «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» опубликованы А.Т. Твардовским с разрешения самого Н.С. Хрущева. По глубине и мастерству эти рассказы непревзойденны и входят, как я убежден, в золотой фонд русской и мировой классики. Но не они, как выясняется, определяют очередные броски и кувырки внешней судьбы автора. Определяют автобиографические романы «Раковый корпус» и «В круге первом» (выдержанные, по ироническому определению одного американского критика, совершенно в стиле социалистического реализма, но с крутой переменой плюсов на минусы и минусов на плюсы). И, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ» (зафиксировавший историю внутреннего советского лагерного террора, как отразилась она в сознании народа). Затем — повесть «Бодался теленок с дубом» (интересная в том числе и сведением литературных счетов). И наконец —многотомный объясняющий драму революции роман «Красное колесо», который нельзя дочитать (потому что он так и не закончен). Но привело это колесо к разрыву с властями и к изгнанию.
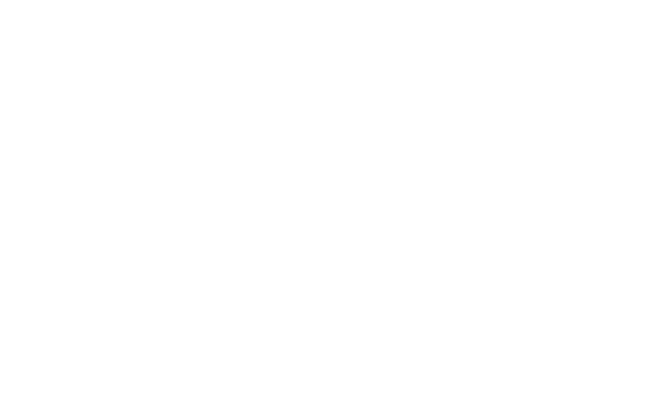
А.И. Солженицын с женой Натальей Дмитриевной незадолго до депортации
Обретя (уже в ссылке) Нобелевскую премию (в России ее не дали бы получить), Солженицын обратил к родине программное сочинение «Как нам обустроить Россию» (примечательное по здравомыслию предлагаемых рецептов и по предчувствию, что здравомыслию Россия не поддастся).
Триумфально возвращение из ссылки — победоносный маршрут через всю страну, с Дальнего Востока в столицу — в 1994 году. И еще полтора десятка лет напряженной работы — в подмосковном Троице-Лыкове — все над той же нескончаемо-неразрешимой темой: о пути России в мировом историческом контексте. И точнее: о том, как распознать Россию в катастрофическом красном перерождении — а может, спасении в гибельном веке?
Триумфально возвращение из ссылки — победоносный маршрут через всю страну, с Дальнего Востока в столицу — в 1994 году. И еще полтора десятка лет напряженной работы — в подмосковном Троице-Лыкове — все над той же нескончаемо-неразрешимой темой: о пути России в мировом историческом контексте. И точнее: о том, как распознать Россию в катастрофическом красном перерождении — а может, спасении в гибельном веке?
Что должен думать об этой драме Творец, в Руках Которого — судьбы людей и народов?
Перечитаем солженицынские искания, полные боли и надежды.
«Вспоминаю как анекдот: осенью 1941-го, — пишет Александр Исаевич, — уже пылала смертная война, я — в который раз и все безуспешно — пытался вникнуть в мудрость “Капитала”».
Не нахожу в этом ничего анекдотического. Посреди смертной войны человек продолжает конспектировать Маркса — это акт упорства, верности долгу, интеллектуального мужества — независимо от того, мудр или не мудр автор «Капитала». И точно так же, независимо от его мудрости, — если уж «Капитал» оказался тем топором, из которого сварили суп, так этот суп и есть реальность. Раз вокруг какого-то стержня скрепилось, значит, это УЖЕ реально. Потому и «пытался вникнуть» — чувствовал.
Перечитаем солженицынские искания, полные боли и надежды.
«Вспоминаю как анекдот: осенью 1941-го, — пишет Александр Исаевич, — уже пылала смертная война, я — в который раз и все безуспешно — пытался вникнуть в мудрость “Капитала”».
Не нахожу в этом ничего анекдотического. Посреди смертной войны человек продолжает конспектировать Маркса — это акт упорства, верности долгу, интеллектуального мужества — независимо от того, мудр или не мудр автор «Капитала». И точно так же, независимо от его мудрости, — если уж «Капитал» оказался тем топором, из которого сварили суп, так этот суп и есть реальность. Раз вокруг какого-то стержня скрепилось, значит, это УЖЕ реально. Потому и «пытался вникнуть» — чувствовал.
«Сейчас очень шумят по поводу Солженицына. Присуждение ему Нобелевской премии всех сбило с толку. Он хороший писатель. И прежде всего — гражданин. Несколько озлоблен, что вполне понятно, если судить о нем как о человеке, и что труднее понять, считая его, в первую очередь, писателем. Лучшая его вещь — “Матренин двор”. Но личность его — героическая. Благородная и стоическая. Существование его придает смысл и моей жизни тоже».
А.А. Тарковский. Дневники
(запись от 17 ноября 1970 г.)
Могло скрепиться вокруг другого стержня?
Могло. В 1917 году было две идеологии, за которыми реально было повести массу: большевистская и черносотенная. Победила первая — и прикрыла собой все: всенародную казарму, тотальную воинскую повинность, удушение отклоняющихся — то есть всю ту реальность, которую Россия получила вместе с Мировой войной из Рук, которых «не успела разглядеть». А победи в ту пору «Союз русского народа»? Казарма устроилась бы под хоругвями, и уклоняющихся душили бы под другие, немарксистские акафисты (с нами Крестная Сила!).
Могло. В 1917 году было две идеологии, за которыми реально было повести массу: большевистская и черносотенная. Победила первая — и прикрыла собой все: всенародную казарму, тотальную воинскую повинность, удушение отклоняющихся — то есть всю ту реальность, которую Россия получила вместе с Мировой войной из Рук, которых «не успела разглядеть». А победи в ту пору «Союз русского народа»? Казарма устроилась бы под хоругвями, и уклоняющихся душили бы под другие, немарксистские акафисты (с нами Крестная Сила!).
Верила ли коммунистическая власть в коммунистические догматы? Первое время, может, и верила. Но марксизм столько раз выворачивался сообразно практическим нуждам и уже по первоусвоению так был адаптирован к русской почве, в пору же строительства «развитого социализма» уже настолько ритуализовался, что истинность Самого Передового Учения интересовала разве только ископаемых безумцев и… Александра Солженицына, который осенью 1941-го продолжал честно штудировать «Капитал».
Психологически его можно понять и после 1941 года, то есть в 1973 году, когда написано «Письмо вождям Советского Союза». Пытаясь перевернуть мир, писатель ищет ту единственную точку опоры, которая находится в сфере его досягаемости: словесную. Он убеждает себя, что именно это — главное, решающее, реальное препятствие. Сдуть словесную пену, и все пойдет к лучшему!
А.Д. Сахаров с трезвостью естествоиспытателя возражает: пена не имеет значения, все это лицемерная болтовня, которой правители прикрывают жажду власти. Вот рухнула она в одночасье, эта система словесная, и когда УЖЕ рухнула, никто не пожалел о ней, и легкость, с которой от нее все отвернулись, свидетельствует о том, что в этом вопросе ближе к истине был академик. Но интересен пункт, в котором оба они — академик и писатель — сошлись: это — их прикованность к этажу власти: к «правителям» и «вождям». Один убежден, что все дело во властолюбии правителей, другой увещевает их перестать верить в Идеологию.
Психологически его можно понять и после 1941 года, то есть в 1973 году, когда написано «Письмо вождям Советского Союза». Пытаясь перевернуть мир, писатель ищет ту единственную точку опоры, которая находится в сфере его досягаемости: словесную. Он убеждает себя, что именно это — главное, решающее, реальное препятствие. Сдуть словесную пену, и все пойдет к лучшему!
А.Д. Сахаров с трезвостью естествоиспытателя возражает: пена не имеет значения, все это лицемерная болтовня, которой правители прикрывают жажду власти. Вот рухнула она в одночасье, эта система словесная, и когда УЖЕ рухнула, никто не пожалел о ней, и легкость, с которой от нее все отвернулись, свидетельствует о том, что в этом вопросе ближе к истине был академик. Но интересен пункт, в котором оба они — академик и писатель — сошлись: это — их прикованность к этажу власти: к «правителям» и «вождям». Один убежден, что все дело во властолюбии правителей, другой увещевает их перестать верить в Идеологию.
«Он много раз подчеркивал: “Я не диссидент”. Он писатель — и никем иным никогда себя не чувствовал… никакую партию он бы не возглавил, никакого поста не принял, хотя его ждали и звали. Но Солженицын, как это ни странно, силен, когда он один в поле воин. Он это доказал многократно».
Л.А. Сараскина. «Александр Солженицын»
(2008 г.)
Да они и не верят.
Потому и Сахарова загоняли в горьковскую глушь, а Солженицына — за рубеж. Пятились, пятились, уклонялись от правды, цеплялись за ложь, про которую все прекрасно знали, что это ложь. Ложь во спасение. Ложь, которая, увы, уже не спасает.
Но сколько-то спасала же?
Спасала.
«Жить не по лжи!» — говорил Солженицын.
Потому и Сахарова загоняли в горьковскую глушь, а Солженицына — за рубеж. Пятились, пятились, уклонялись от правды, цеплялись за ложь, про которую все прекрасно знали, что это ложь. Ложь во спасение. Ложь, которая, увы, уже не спасает.
Но сколько-то спасала же?
Спасала.
«Жить не по лжи!» — говорил Солженицын.
В основе этого лозунга — идеальное, «математическое» понимание реальности: есть правда и есть ложь, и все, что не правда, все — ложь. Для уравнения — замечательно. Для публицистической парадигмы — достаточно хорошо. Для реальной жизни — никак. Потому что в реальной жизни правда и ложь перемешаны, и определять нужно: где что? — каждое мгновенье заново. Одно и то же утверждение может быть правдой и ложью в зависимости от контекста, а контекст — многослоен, многосложен, изменчив. Хуже того: правда может служить лжи, играть роль лжи, быть ложью. И еще того хуже, сложней, коварней: ложь может играть роль правды, быть правдой. Быть жизнью, жизнью множества людей, и уже ПОЭТОМУ — быть правдой.
Фантастика? Разумеется. Человеческая история вообще — фантастика.
Фантастика? Разумеется. Человеческая история вообще — фантастика.
Я стараюсь поменьше выходить за пределы тех фактов, которые Солженицын приводит, сам же и признает. Как страстный художник и пристрастный историк, он старается понять, вместить трагедию. В том же томе его «публицистики» заключительные главы, предназначавшиеся для одного из узлов «Красного колеса», — насколько же они чище и выше остального текста — статей, интервью и выступлений: точностью эмоциональных реакций, горькой верностью правде. Но в Солженицыне-публицисте словно бы сидит «математик» и все никак не сведет счеты: раз Сталин коммунист, уничтожавший все русское, то как же он может оказаться вождем русского народа?!
И что же? Использовать Гитлера ради освобождения от Сталина. И получить нечто «русское», свободное и от коммунизма, и от фашизма. Тогда — в разгар войны.
И что же? Использовать Гитлера ради освобождения от Сталина. И получить нечто «русское», свободное и от коммунизма, и от фашизма. Тогда — в разгар войны.
«Археологи не обнаруживают таких ранних стадий человеческого существования, когда бы не было у нас искусства. Еще в предутренних сумерках человечества мы получили его из Рук, которых не успели разглядеть. И не успели спросить: ЗАЧЕМ нам этот дар?»
А.И. Солженицын. «Нобелевская лекция
по литературе» (1972 г.)
Были такие люди: пытались. И даже армию составили: Русскую, Освободительную. Что получили? Тупик в оба конца. Их, власовцев, до сборных пунктов наши солдаты не доводили — по дороге убивали. Их население самосудом судило, никаких чекистов не требовалось. Или, думаете, эти самые «чекисты» рискнули бы вешать полицаев на площадях публично (а не дырявить, как полагалось, втихую в подвалах НКВД), если бы «подсоветские народы» (украинцы, белорусы) не видели бы в этих «жертвах сталинизма» прежде всего — предателей общесоветского, общенародного, общерусского дела? Читайте белорусов: Козько, Адамовича.
Разумеется, в погонах генералиссимуса генсек ВКП(б) не делается ни лучше, ни человечнее. Самый крутой изверг именно и становится самым крутым военачальником. Войны вообще приятными людьми не выигрываются. И революции. Николай II, человек весьма приятный в личном общении, — тот и войну не выиграл, и просто «сдал» страну революционерам, не дожидаясь ультиматумов. Что Солженицын и показал с законной горечью. Да еще и приговаривал: ему бы, Николаю, пожестче быть, ему бы не жалеть и детей своих ради державы.
Ну, так дождались такого, который не жалел. Ни своих, ни чужих. С ним и выиграли войну — смертельную. Теперь говорим: ах, эти люди жестоки, тупы, тоталитарны. «Сталинские зомби». Правильно. С другими лежали бы мы все во рву.
Ну, так дождались такого, который не жалел. Ни своих, ни чужих. С ним и выиграли войну — смертельную. Теперь говорим: ах, эти люди жестоки, тупы, тоталитарны. «Сталинские зомби». Правильно. С другими лежали бы мы все во рву.
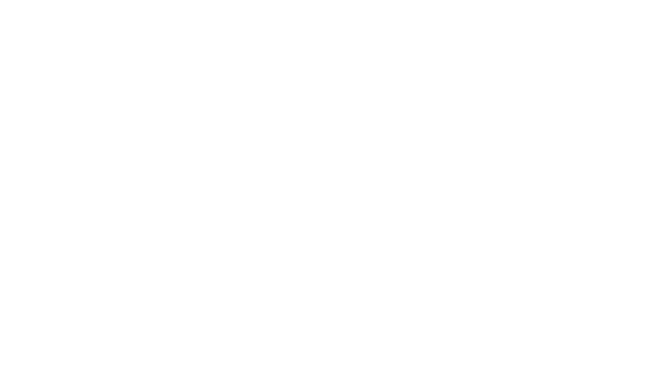
Президент России В.В. Путин и А.И. Солженицын. Июнь 2007 г.
Проблема — «морально неразрешимая». То есть это проблема для великого художника. И Солженицын бьется. Как ХУДОЖНИК. Как ПУБЛИЦИСТ — логику ищет. Куда как лучше, если бы Россию, ставшую коммунистической, освободил бы кто-нибудь от «коммунизма», но не задел бы при этом «русских». А то получается: пошел Гитлер бить коммунистов, а оказалось, что это русские.
Мир раскалывается, трещина идет через Россию. И вся наша история — не череда ли выживаний на границах эпох, цивилизаций, этнопотоков, систем, ареалов? Мы должны просить себе другой судьбы? А те счастливые страны и народы, что не пали в «бездну», они что, в самом деле лучше нас? И их счастье нам сгодится?
Мир раскалывается, трещина идет через Россию. И вся наша история — не череда ли выживаний на границах эпох, цивилизаций, этнопотоков, систем, ареалов? Мы должны просить себе другой судьбы? А те счастливые страны и народы, что не пали в «бездну», они что, в самом деле лучше нас? И их счастье нам сгодится?
Мучается этими вопросами великая душа, а математический разум тщетно силится измерить мучения и установить ту истину, которая — «одна». Бьется, бьется над государственными системами и национальными формами, столкнувшими Россию в бездну, — как бы напасти избежать, а потом вдруг «оказывается»: «…И в этом падении мира в бездну есть черты несомненно глобальные, не зависящие ни от государственных политических систем, ни от уровня экономики и культуры, ни от национальных особенностей».
Уже легче. На миру и смерть красна. Однако если имеется истина, которая «одна», то где же спасение из «бездны»? «Бесплодны попытки искать выход из сегодняшнего мирового положения, не возвратя наше сознание раскаянно к Создателю всего». И тут я, потомственный нераскаянный атеист, всецело с автором «Красного колеса» согласен. И с его учителем Львом Толстым. Бога нет, но что-то есть… внутри нас, так?
«Опрометчивым упованиям двух последних веков, приведшим нас в ничтожество и на край ядерной и неядерной смерти, мы можем противопоставить только упорные поиски теплой Божьей руки…»
Да, да, конечно. Руки Творца. Если разглядеть.
Уже легче. На миру и смерть красна. Однако если имеется истина, которая «одна», то где же спасение из «бездны»? «Бесплодны попытки искать выход из сегодняшнего мирового положения, не возвратя наше сознание раскаянно к Создателю всего». И тут я, потомственный нераскаянный атеист, всецело с автором «Красного колеса» согласен. И с его учителем Львом Толстым. Бога нет, но что-то есть… внутри нас, так?
«Опрометчивым упованиям двух последних веков, приведшим нас в ничтожество и на край ядерной и неядерной смерти, мы можем противопоставить только упорные поиски теплой Божьей руки…»
Да, да, конечно. Руки Творца. Если разглядеть.
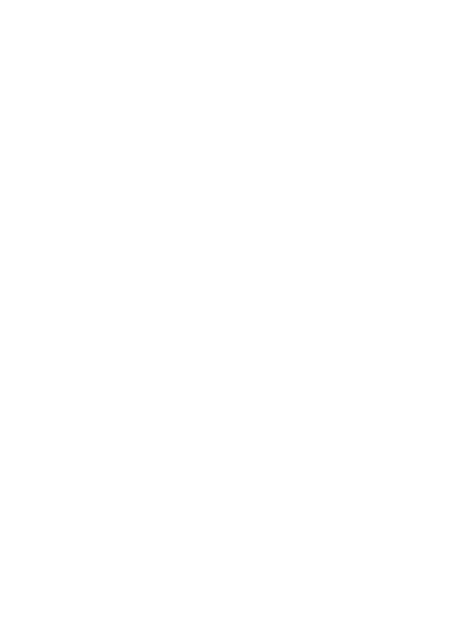
Пергамон-музеум в Берлине
Размышляя о том, «как нам обустроить Россию», Александр Исаевич Солженицын приводит пример Германии: «Западную Германию наполнило облако раскаяния прежде, чем там наступил экономический расцвет. У нас — и не начали раскаиваться. У нас надо всею гласностью нависают гирляндами прежние тяжелые жирные гроздья лжи. А мы их как будто не замечаем»