Созидатель музыкальной жизни
Николас (Николай Леонидович) Слонимский
(1894–1995)
(1894–1995)
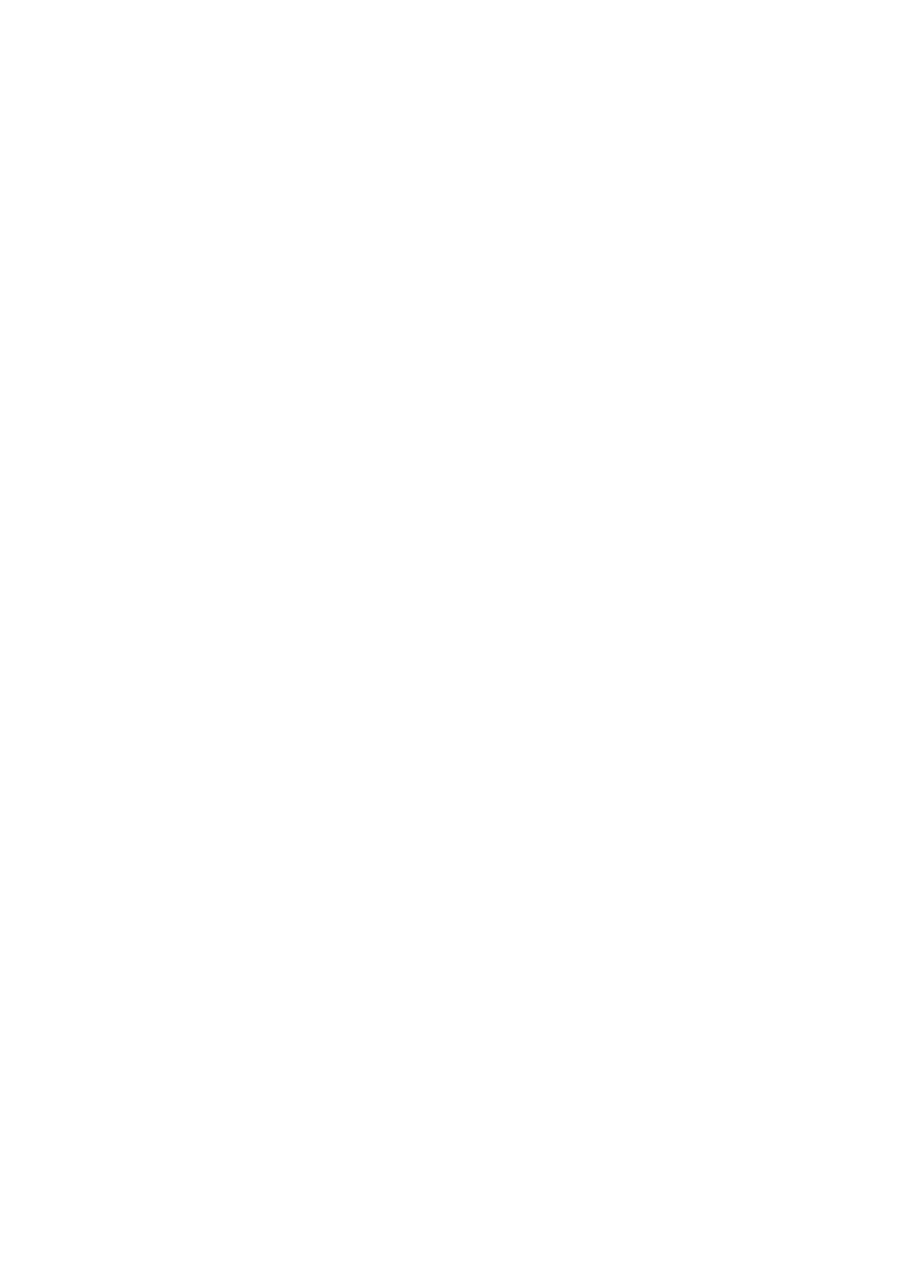
В колонном зале
В 1978 году Н. Слонимский был приглашен на открытие Советского музыкального кинофестиваля, где выступил с речью
В 1978 году Н. Слонимский был приглашен на открытие Советского музыкального кинофестиваля, где выступил с речью
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
13 (25) апреля 1894 г. — родился в Санкт-Петербурге
1921 г. — переехал в Париж
1923 г. — переехал в Бостон (США)
Весна — лето 1931 г. — дирижировал концертами новой американской музыки в Париже
1958–1992 гг. — состоял главным редактором Бейкеровского биографического словаря музыкантов
1962 г. — совершил просветительское турне в СССР, страны Восточной Европы и Израиль
1964 г. — переехал в Уэствуд-Вилледж (близ Лос-Анджелеса)
Весна 1992 г. — последняя поездка в Россию
25 декабря 1995 г. — скончался в Лос-Анджелесе
13 (25) апреля 1894 г. — родился в Санкт-Петербурге
1921 г. — переехал в Париж
1923 г. — переехал в Бостон (США)
Весна — лето 1931 г. — дирижировал концертами новой американской музыки в Париже
1958–1992 гг. — состоял главным редактором Бейкеровского биографического словаря музыкантов
1962 г. — совершил просветительское турне в СССР, страны Восточной Европы и Израиль
1964 г. — переехал в Уэствуд-Вилледж (близ Лос-Анджелеса)
Весна 1992 г. — последняя поездка в Россию
25 декабря 1995 г. — скончался в Лос-Анджелесе
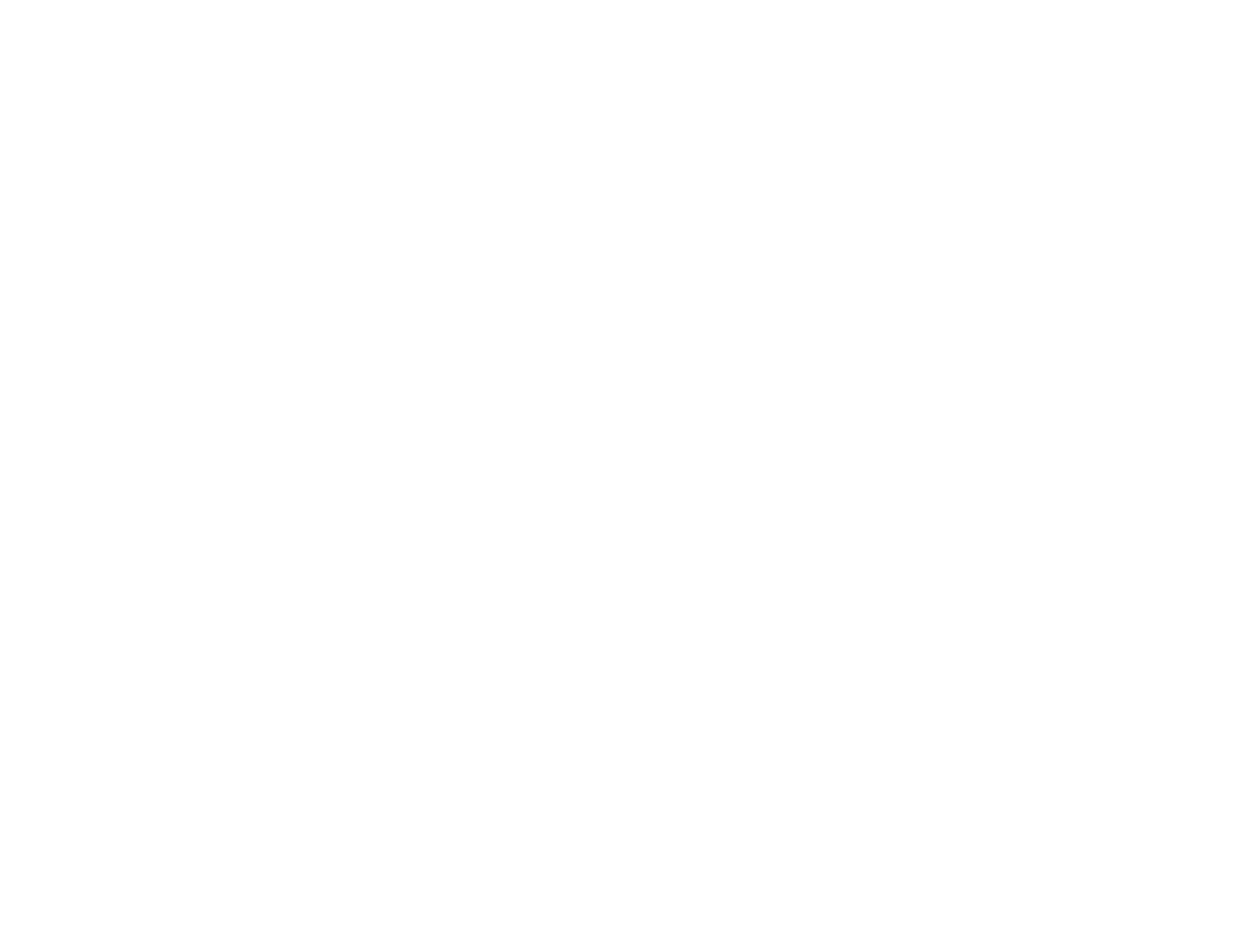
Н. Слонимский. 1994 г.
Его мемуары, впервые опубликованные в 1988 году, озаглавлены «Абсолютный слух». Большая Российская Энциклопедия описывает этот феномен как «способность определять абсолютную высоту музыкальных звуков, не сравнивая их с эталоном». Речь идет о врожденном даре, располагающем к занятиям музыкой (хотя известны и гении, которые им не обладали). Но в данном случае дело не только в природном феномене. Николай Слонимский обладал удивительным даром слышать интересное, талантливое в искусстве XX века. Неутомимый просветитель, «человек-оркестр», он всю свою долгую жизнь строил музыкальные мосты между странами и континентами.
Николай Леонидович (Николас) Слонимский родился 13 (25) апреля 1894 года в Петербурге. Он был третьим из пяти выживших детей. Это было второе поколение еврейской семьи, принявшее христианство. Подобно многим евреям России, Слонимские пошли на этот шаг, чтобы избежать многочисленных унижений. Позднее Слонимский подчеркивал, что в подростковом возрасте весть о собственном еврействе стала для него настоящим потрясением.
Из многочисленных векторов, составлявших «интеллектуальное богатство» семьи (меткий афоризм Слонимского), нас больше всего интересуют два. Первый — литературно-публицистический: писателями и редакторами были дед по отцовской, бабушка по материнской линии; отец Леонид (Людвиг) Зиновьевич; младший брат Михаил (сооснователь объединения «Серапионовы братья»); племянник Антоний (польский поэт). Второй вектор — музыкальный: тетя, Изабелла Венгерова, — выдающийся фортепианный педагог (с 1924 года преподавала в Кертисовском институте и воспитала таких пианистов, как Сэмюэл Барбер и Леонард Бернстайн); племянник Сергей Слонимский (1932–2020) — советский и российский композитор, пианист, музыковед.
Николай Леонидович (Николас) Слонимский родился 13 (25) апреля 1894 года в Петербурге. Он был третьим из пяти выживших детей. Это было второе поколение еврейской семьи, принявшее христианство. Подобно многим евреям России, Слонимские пошли на этот шаг, чтобы избежать многочисленных унижений. Позднее Слонимский подчеркивал, что в подростковом возрасте весть о собственном еврействе стала для него настоящим потрясением.
Из многочисленных векторов, составлявших «интеллектуальное богатство» семьи (меткий афоризм Слонимского), нас больше всего интересуют два. Первый — литературно-публицистический: писателями и редакторами были дед по отцовской, бабушка по материнской линии; отец Леонид (Людвиг) Зиновьевич; младший брат Михаил (сооснователь объединения «Серапионовы братья»); племянник Антоний (польский поэт). Второй вектор — музыкальный: тетя, Изабелла Венгерова, — выдающийся фортепианный педагог (с 1924 года преподавала в Кертисовском институте и воспитала таких пианистов, как Сэмюэл Барбер и Леонард Бернстайн); племянник Сергей Слонимский (1932–2020) — советский и российский композитор, пианист, музыковед.
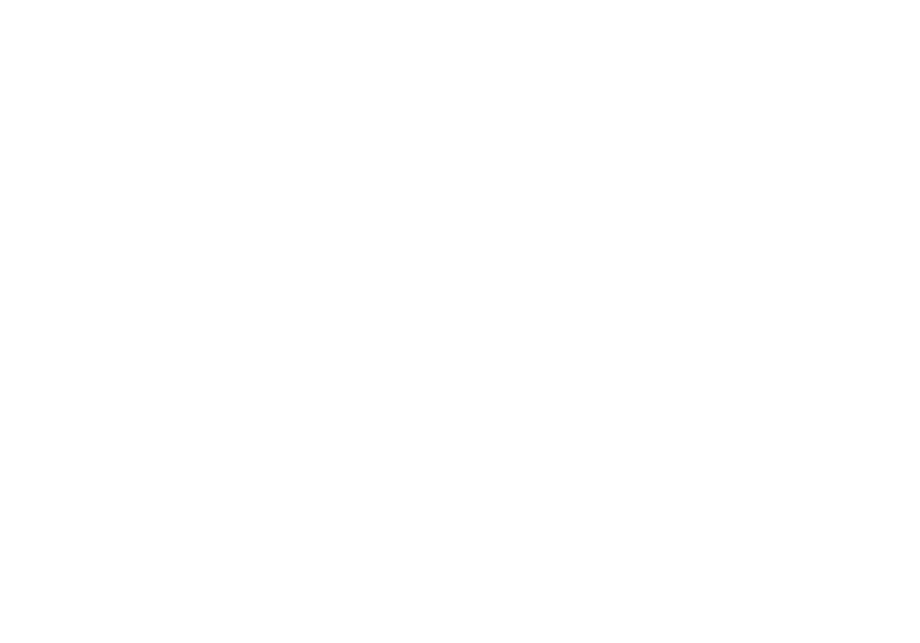
Н. Слонимский. 1933 г.
За разностороннюю одаренность маленького Колю прозвали «Ньютончиком». Вполне в духе времени юноша совмещал музыкальное (Петербургская консерватория) и естественно-научное (Петербургский университет) образование. Его единственным фортепианным педагогом была тетя. Кроме того, юноша брал уроки композиции у Василия Калафати (первый педагог Игоря Стравинского). Добавим к этому знакомство и дружбу с русскими символистами (особенно четой Мережковский — Гиппиус), благодаря которому Николай Слонимский стал секретарем Религиозно-философского общества Петербурга.
«Я был типичным продуктом русской интеллигенции. Что спасло меня от полной дезориентации, так это очистительный фактор Революции… Борьба за выживание в самой
элементарной форме стала главной задачей», — писал он в автобиографии «Абсолютный слух». Палочкой-выручалочкой стало вполне «интеллигентское» занятие — игра на фортепиано. И пусть октавным пассажам «не хватало бравурности», — гораздо важнее было умение играть любую музыку в любом месте и в любом ансамбле.
«Я был типичным продуктом русской интеллигенции. Что спасло меня от полной дезориентации, так это очистительный фактор Революции… Борьба за выживание в самой
элементарной форме стала главной задачей», — писал он в автобиографии «Абсолютный слух». Палочкой-выручалочкой стало вполне «интеллигентское» занятие — игра на фортепиано. И пусть октавным пассажам «не хватало бравурности», — гораздо важнее было умение играть любую музыку в любом месте и в любом ансамбле.
«Когда мне было шесть лет, мама сказала, что я гений, и это было огромной ошибкой. Я знал, что обычно гений — тот, кто снискал уважение, признание, кто богат. Но я рос, рос и рос, — а мир все еще не лежал у моих ног».
Н. Слонимский. Из радиоинтервью
с Д. Ордунио (1979 г.)
С 1918 по 1921 год молодой музыкант проделал стандартный для русского эмигранта тех лет путь: Москва — Киев — Ялта — Константинополь — Париж. И каждый раз фортепиано становилось подспорьем в борьбе за хлеб насущный. В Париже на концерте баса Александра Мозжухина партия фортепиано привлекла внимание знаменитого дирижера Сергея Кусевицкого.
Их сотрудничество продолжилось уже в Америке, куда Слонимский переехал в 1923 году. Для Кусевицкого, недавно возглавившего Бостонский симфонический оркестр, Слонимский был просто находкой: великолепная игра на фортепиано (необходимая при разучивании партитур, прослушивании музыкантов и т. д.), «рысий» корректорский глаз, тот самый абсолютный слух, энциклопедическая образованность и невероятная способность к языкам… Неудивительно, что вскоре Слонимский стал личным секретарем Кусевицкого. Идиллия длилась недолго: великий дирижер достаточно ревниво относился к успехам сотрудников, к тому же ему было свойственно специфическое русское провинциальное барство (не в лучшем смысле слова).
Их сотрудничество продолжилось уже в Америке, куда Слонимский переехал в 1923 году. Для Кусевицкого, недавно возглавившего Бостонский симфонический оркестр, Слонимский был просто находкой: великолепная игра на фортепиано (необходимая при разучивании партитур, прослушивании музыкантов и т. д.), «рысий» корректорский глаз, тот самый абсолютный слух, энциклопедическая образованность и невероятная способность к языкам… Неудивительно, что вскоре Слонимский стал личным секретарем Кусевицкого. Идиллия длилась недолго: великий дирижер достаточно ревниво относился к успехам сотрудников, к тому же ему было свойственно специфическое русское провинциальное барство (не в лучшем смысле слова).
С 1927-го до середины 1930-х годов главным акцентом деятельности Слонимского стало дирижирование. Воспитанника русской академической школы увлекла так называемая новая музыка. В профессиональных кругах этим термином обозначают не просто произведения ныне живущих авторов, а сочинения, язык которых выходит за привычные рамки восприятия и самих музыкантов, и слушателей.
Созданный Слонимским в 1927 году Бостонский камерный оркестр прославился исполнением новой американской музыки. Слонимский сблизился с группой выдающихся авторов. Особенно важны две фигуры — Генри Кауэлл и Чарльз Айвз. Один из первых великих авангардистов XX века, Ч. Айвз настолько опередил свое время, что его музыка по-настоящему пришлась ко двору лишь после его смерти в 1954 году. В январе 1931 года Бостонский камерный оркестр под управлением Николаса Слонимского осуществил мировую премьеру сочинения Айвза «Три уголка Новой Англии».
Созданный Слонимским в 1927 году Бостонский камерный оркестр прославился исполнением новой американской музыки. Слонимский сблизился с группой выдающихся авторов. Особенно важны две фигуры — Генри Кауэлл и Чарльз Айвз. Один из первых великих авангардистов XX века, Ч. Айвз настолько опередил свое время, что его музыка по-настоящему пришлась ко двору лишь после его смерти в 1954 году. В январе 1931 года Бостонский камерный оркестр под управлением Николаса Слонимского осуществил мировую премьеру сочинения Айвза «Три уголка Новой Англии».
«Мне самому понадобилось несколько лет, чтобы примириться со своим ложным положением между русским сознанием и еврейским происхождением».
Н. Слонимский. Из книги «Абсолютный слух. История жизни» (1988 г.)
Поверив в дирижера, отец американского музыкального авангарда спонсировал (на средства от собственного страхового бизнеса) его концерты из произведений современных американских авторов в Париже. Там Слонимский подружился с одним из пионеров электронной и конкретной музыки Эдгаром Варезом. Следы парижского триумфа — серия концертов в городах Европы и громкая мировая премьера «Ионизации», сочинения Вареза для 41 ударного инструмента и двух сирен (6 марта 1933 года, Нью-Йорк). Еще одно парижское событие, «которое затмило все артистические достижения», — свадьба с Дороти Эдлоу, арт-критиком, дочерью еврейских эмигрантов из России («Дороти была на семь лет младше меня, но на вечность мудрее», — отмечал Слонимский). Они были вместе до самой ее смерти 11 января 1964 года.
«Кауэлл, Айвз и Варез были главными наставниками революции в моей музыкальной эстетике».
Н. Слонимский. Из книги «Абсолютный слух. История жизни» (1988 г.)
Со второй половины 1930-х годов главным делом Слонимского стало музыковедение в различных формах и жанрах. Как академический музыковед он прославился работой 1947 года «Тезаурус гамм и мелодических оборотов»; по существу, в ней был обобщен интонационный словарь современной музыки. В отличие от ряда современников (например Арнольда Шенберга), целью Слонимского было не обоснование конкретной звуковой системы или метода композиции, а демонстрация возможностей для авторов, пишущих музыку любого стиля. Парадокс: поначалу наибольший успех книга имела у джазовых музыкантов (они нашли в ней неоценимый источник мелодических каденций и импровизаций). Среди восторженных поклонников «Тезауруса» — джазмен Джон Колтрейн и рок-музыкант Фрэнк Заппа. Слонимский вошел в историю и как автор знаменитого «Гроссмутераккорда» (в переводе с немецкого — «бабушкиного»), который содержит все 12 хроматических тонов и симметрично обратимых интервалов. Логику их последовательности Слонимский описал с помощью циферблата: с отметки «12» мы двигаемся поочередно на равное расстояние по и против часовой стрелки. «Получается восхитительно симметричное движение маятника», — полагал он.
«В Ялте и прошел курс основ экономики. Шанс на выживание был только у тех, кто умел зарабатывать ручным трудом или развлекать».
Н. Слонимский. Из книги «Абсолютный слух. История жизни» (1988 г.)
Выдающийся музыкальный культуртрегер, Слонимский предпринял несколько просветительских поездок по заданию различных государственных и общественных институтов. С одной стороны, он рассказывал об американской музыке, с другой — собирал сведения о музыкальной культуре других стран и народов для американских архивов и библиотек (в том числе для знаменитой Библиотеки Конгресса). Достойны упоминания прежде всего два его турне. Первое — по странам Южной и Латинской Америки в 1941–1942 годах. Результатом этого путешествия стала книга «Музыка Латинской Америки» (1945). Вторая поездка — масштабное турне 1962 года по Советскому Союзу (Москва, Ленинград, Киев, Тбилиси, Ереван, Баку), странам Европы (Польша, Югославия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Чехословакия) и Израилю.
В СССР он встретился с братьями Александром и Михаилом, по-настоящему сблизился с племянником Сергеем; в Польше — общался с племянником Антонием. Для советских музыкантов приезд Слонимского (в том самом году, когда на Родину с концертами триумфально вернулся Игорь Стравинский) стал еще одним символом «музыкальной оттепели».
Николас Слонимский — автор многочисленных научно-популярных книг: среди них «Дорога к музыке» (1947), «Кое-что о музыке» (1948), «Лексикон музыкальных инвектив» (1953). Он обладал редким для человека, вышедшего из академической среды, умением соединять глубину мысли с легкостью формы, каждый раз точно «попадая в жанр». Например, «Дорога к музыке» родилась из статей для детской странички бостонской газеты «Крисчен сайенс монитор» (многие годы на страницах этого издания публиковалась Дороти Эдлоу).
Николас Слонимский — автор многочисленных научно-популярных книг: среди них «Дорога к музыке» (1947), «Кое-что о музыке» (1948), «Лексикон музыкальных инвектив» (1953). Он обладал редким для человека, вышедшего из академической среды, умением соединять глубину мысли с легкостью формы, каждый раз точно «попадая в жанр». Например, «Дорога к музыке» родилась из статей для детской странички бостонской газеты «Крисчен сайенс монитор» (многие годы на страницах этого издания публиковалась Дороти Эдлоу).
«Находя ошибки в чужих книгах, я испытывал эгоистическое удовольствие — будто возвращался в детство, когда, поощряемый матерью, думал: “Какой я умный мальчик”. Теперь о том, какой я умный, мне стали говорить другие».
Н. Слонимский. Из книги «Абсолютный слух. История жизни» (1988 г.)
Еще в 1937 году вышло первое издание книги Слонимского «Музыка с 1900 года»: это хронограф музыкальных дат и событий первой трети XX века. Во втором издании (1971) летопись была доведена до 1969 года. Значимая сама по себе, книга стала подступом к главной профессии Слонимского. Речь идет о лексикографии — синтезе академического и популярного музыковедения. Именно как лексикограф Слонимский внес главный вклад в мировую культуру.
С конца 1930-х годов Слонимский в качестве автора и редактора сотрудничал с рядом энциклопедий и словарей. А в 1958 году под его редакцией вышло пятое издание Бейкеровского биографического словаря музыкантов. Слонимский оставался во главе проекта до 1992 года: под его редакцией вышли дополнение 1971 года, шестое (1978), седьмое (1984) и восьмое (1992) издания. В шутку он называл себя диаскеуастом (от dia — сквозь и skeuazein —подготавливать). Страсть Николаса к точному знанию была его естеством, целью, «интеллектуальной сущностью».
С конца 1930-х годов Слонимский в качестве автора и редактора сотрудничал с рядом энциклопедий и словарей. А в 1958 году под его редакцией вышло пятое издание Бейкеровского биографического словаря музыкантов. Слонимский оставался во главе проекта до 1992 года: под его редакцией вышли дополнение 1971 года, шестое (1978), седьмое (1984) и восьмое (1992) издания. В шутку он называл себя диаскеуастом (от dia — сквозь и skeuazein —подготавливать). Страсть Николаса к точному знанию была его естеством, целью, «интеллектуальной сущностью».
«Слонимский — один из тех лексикографов, у которых имеется заскок насчет точности. Он проплывет Атлантику под водой, лишь бы взглянуть на свидетельство о рождении какого-нибудь безвестного американского композитора… Он никому не верит на слово, ему нужны документы».
Г. Шонберг,
обозреватель «Нью-Йорк Таймс»
Слонимский помнил «многое и многих», он общался, дружил, переписывался не только с великими композиторами, но и с авторами, десятилетиями прозябавшими в безвестности. Он объездил десятки стран — и везде сочинялась музыка! Он был человеком, «деятельно созидающим музыкальную жизнь» (Сергей Слонимский), а лексикография была инструментом этого созидания.
После смерти жены в 1964 году Николас Слонимский переехал в Уэствуд-Вилледж (близ Лос-Анджелеса). Его «возраст абсурда» выглядел таковым только на бумаге: даже после девяноста он не сбавлял творческой активности. Характерный пример: из двух циклов преподавания в Калифорнийском университете второй приходится на сезон 1985–1986 года, когда Слонимскому было за девяносто. Чуть ранее, весной 1981 года, он испытал волнующий опыт: по предложению Фрэнка Заппы участвовал в его рок-концерте, исполнив фрагменты собственного фортепианного цикла «Минитюды».
После смерти жены в 1964 году Николас Слонимский переехал в Уэствуд-Вилледж (близ Лос-Анджелеса). Его «возраст абсурда» выглядел таковым только на бумаге: даже после девяноста он не сбавлял творческой активности. Характерный пример: из двух циклов преподавания в Калифорнийском университете второй приходится на сезон 1985–1986 года, когда Слонимскому было за девяносто. Чуть ранее, весной 1981 года, он испытал волнующий опыт: по предложению Фрэнка Заппы участвовал в его рок-концерте, исполнив фрагменты собственного фортепианного цикла «Минитюды».
Несколько слов о сочинениях Слонимского. Их немного: в основном это фортепианные пьесы и камерные ансамбли. Сам Слонимский выделял «Вариации на бразильскую тему» (мелодия привезена из латиноамериканской поездки). «Выбор редактора» — «Черно-белые этюды» (1928), в которых правая рука играет только по белым, левая — только по черным клавишам.
В последние десятилетия жизни Слонимский часто приезжал в СССР. Он никогда не занимал ни «просоветских», ни «антисоветских» позиций, не выступал с политическими декларациями. Его мировоззрением были музыка, просвещение. Советские власти, в том числе руководство Союза композиторов, отлично знали, что в Международную энциклопедию музыки и музыкантов Николай Леонидович включил 114 статей о советских авторах. Ведали они и то, что в годы маккартизма к нему наведывались агенты ФБР. Как причудлив политический маятник: поездку 1962 года по линии культурного обмена организовал Государственный департамент! В 1970– 1980-е годы Слонимский был желанной фигурой в СССР, его объявили «другом советской музыки». Свой последний визит уже в Россию (Санкт-Петербург) он совершил накануне 98-летия, весной 1992 года. Николай Леонидович Слонимский скончался в Лос-Анджелесе 25 декабря 1995 года.
…Однажды на банкете в Тбилиси он провозгласил тост за мирное существование додекафонии и тональности (то есть музыки, различной по языку, стилю, эстетике). Едва ли в русском музыкальном искусстве XX века найдется человек, сделавший для этого сосуществования больше, чем
Николас Слонимский.
В последние десятилетия жизни Слонимский часто приезжал в СССР. Он никогда не занимал ни «просоветских», ни «антисоветских» позиций, не выступал с политическими декларациями. Его мировоззрением были музыка, просвещение. Советские власти, в том числе руководство Союза композиторов, отлично знали, что в Международную энциклопедию музыки и музыкантов Николай Леонидович включил 114 статей о советских авторах. Ведали они и то, что в годы маккартизма к нему наведывались агенты ФБР. Как причудлив политический маятник: поездку 1962 года по линии культурного обмена организовал Государственный департамент! В 1970– 1980-е годы Слонимский был желанной фигурой в СССР, его объявили «другом советской музыки». Свой последний визит уже в Россию (Санкт-Петербург) он совершил накануне 98-летия, весной 1992 года. Николай Леонидович Слонимский скончался в Лос-Анджелесе 25 декабря 1995 года.
…Однажды на банкете в Тбилиси он провозгласил тост за мирное существование додекафонии и тональности (то есть музыки, различной по языку, стилю, эстетике). Едва ли в русском музыкальном искусстве XX века найдется человек, сделавший для этого сосуществования больше, чем
Николас Слонимский.
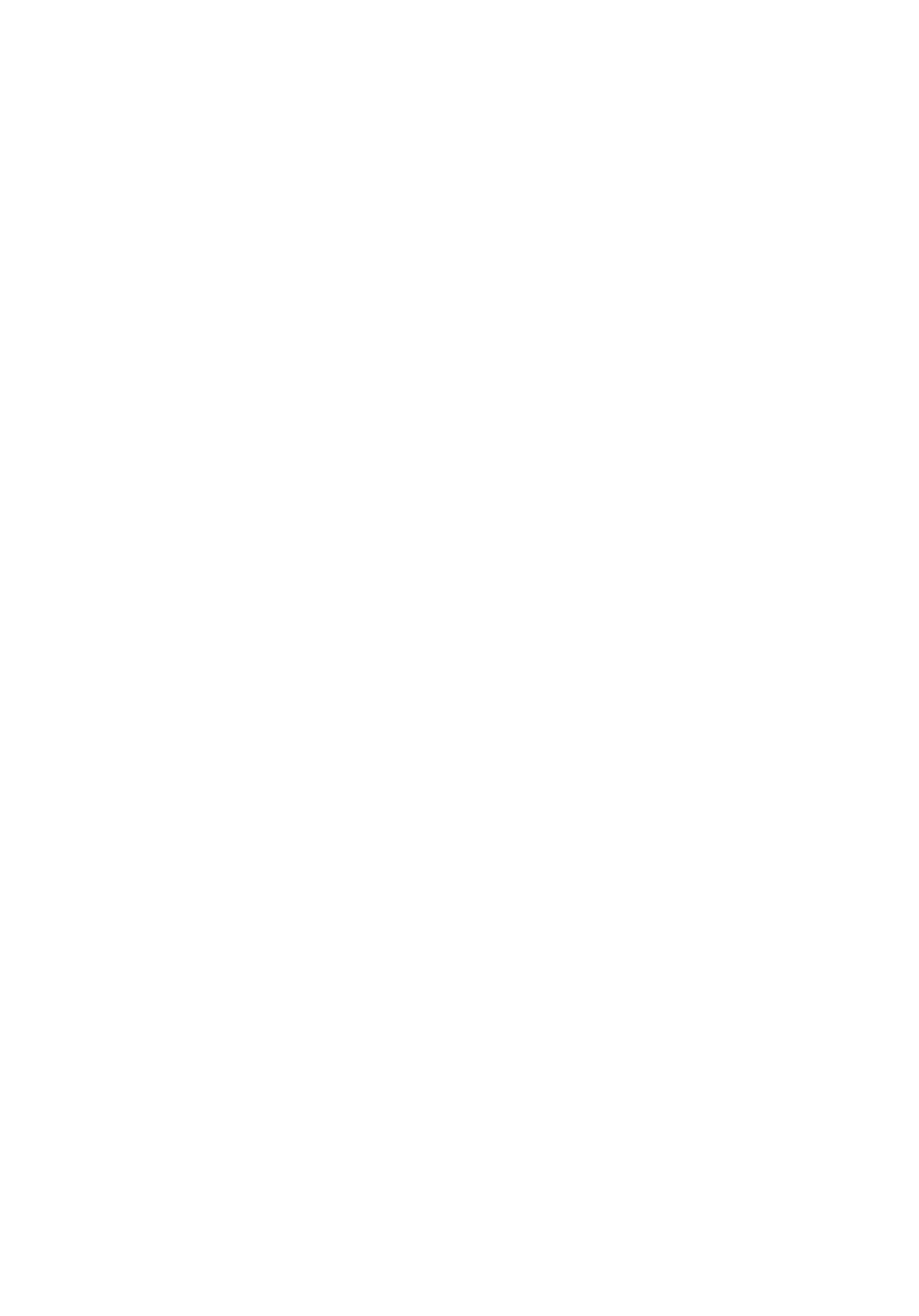
Эта музыка будет вечной?
В США Н. Слонимский продолжил вести активную творческую деятельность, сотрудничал со многими музыкантами, в том числе с русскими эмигрантами, популяризировал современную музыку — Ч. Айвза, Б. Бартока и других