Диссидентство как личная трагедия?
Андрей Донатович Синявский
(1925–1997)
(1925–1997)
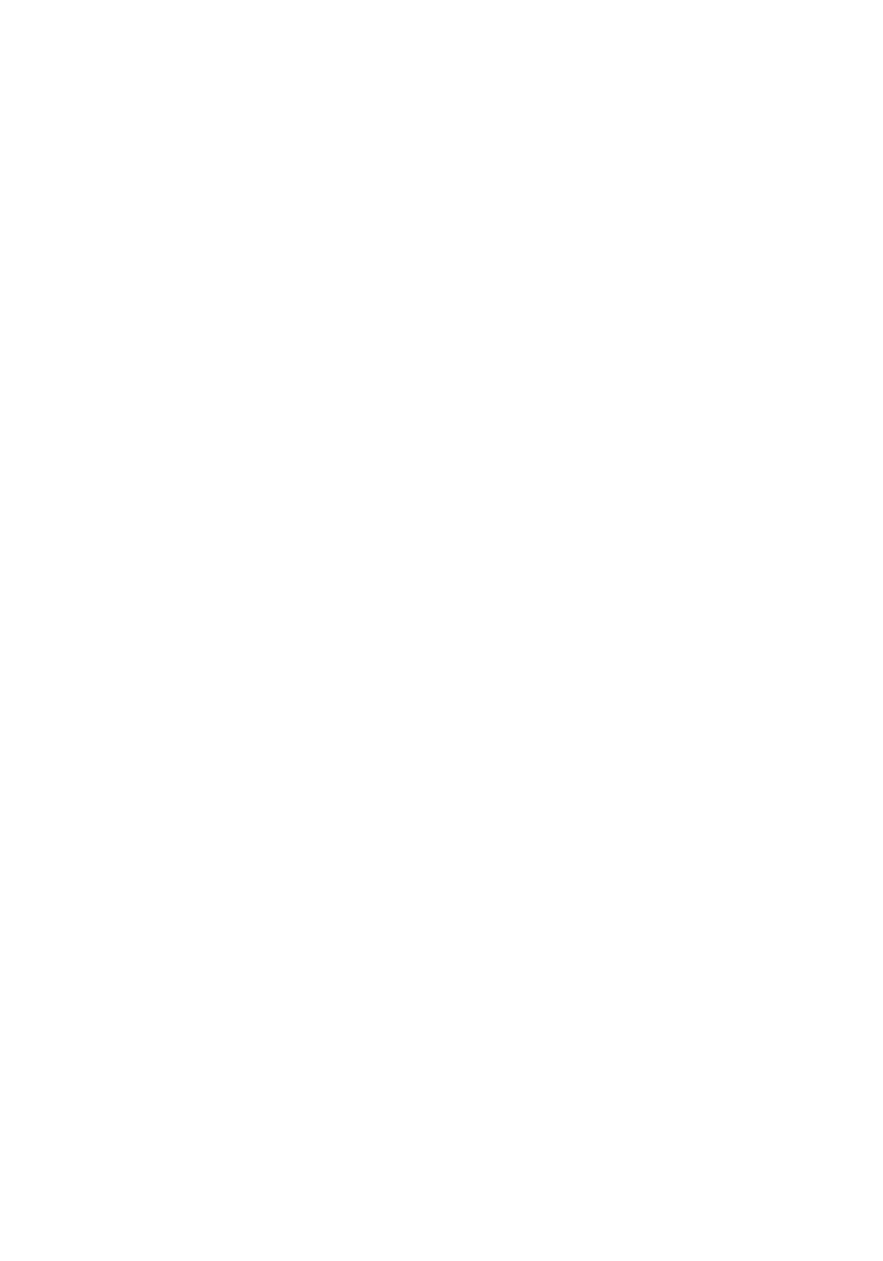
Подвиг писателя, начавшего с не удобного псевдонима
Большинство литературных произведений А.Д. Синявский публиковал под псевдонимом «Абрам Терц». Свою фамилию писатель ставил в основном под литературоведческими статьями и публицистикой
Большинство литературных произведений А.Д. Синявский публиковал под псевдонимом «Абрам Терц». Свою фамилию писатель ставил в основном под литературоведческими статьями и публицистикой
8 октября 1925 г. — родился в Москве
1943 г. — окончил школу, призван в армию
1945 г. — поступил на филологический факультет МГУ
1952 г. — защитил кандидатскую диссертацию
1965 г. — арестован, осужден на 7 лет
1971 г. — освобожден досрочно
1973 г. — эмигрировал в Париж, приглашен профессором в университет Париж VI Сорбонна
1978 г. — начало издания журнала «Синтаксис»
1991 г. — сообщение о пересмотре дел К.А. Улманиса, Н.В.Тимофеева-Ресовского, А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля
25 февраля 1997 г. — умер в Париже, похоронен в Фонтене-о-Роз под Парижем
1943 г. — окончил школу, призван в армию
1945 г. — поступил на филологический факультет МГУ
1952 г. — защитил кандидатскую диссертацию
1965 г. — арестован, осужден на 7 лет
1971 г. — освобожден досрочно
1973 г. — эмигрировал в Париж, приглашен профессором в университет Париж VI Сорбонна
1978 г. — начало издания журнала «Синтаксис»
1991 г. — сообщение о пересмотре дел К.А. Улманиса, Н.В.Тимофеева-Ресовского, А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля
25 февраля 1997 г. — умер в Париже, похоронен в Фонтене-о-Роз под Парижем
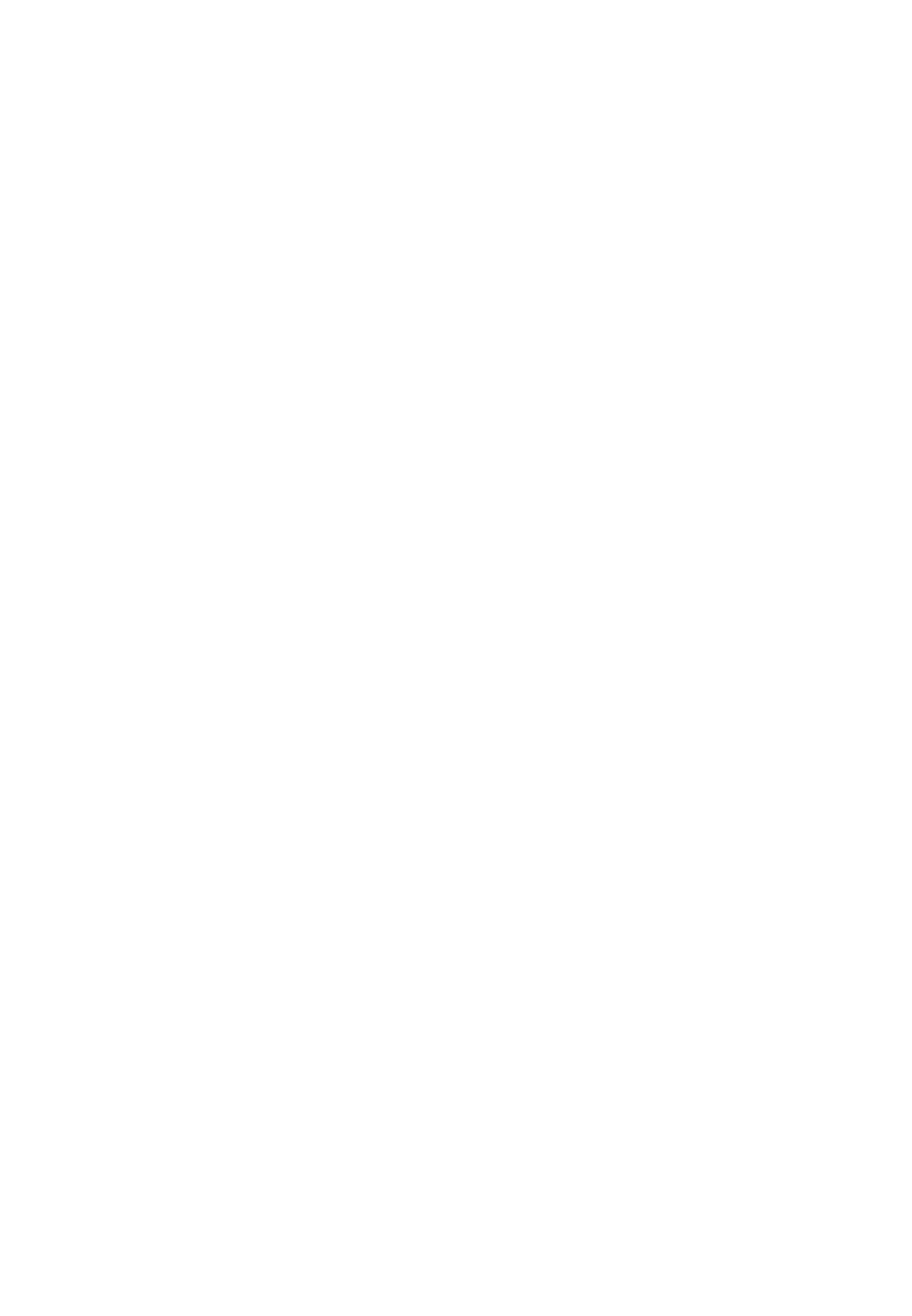
А.Д. Синявский. Париж. 1992 г.
Андрей Донатович Синявский родился 8 октября 1925 года в Москве в семье бывшего дворянина. Его отец, Донат Евгеньевич Синявский, был левым эсером. Благодаря отцовской страсти к литературе мальчика с детства окружали книги.
В 1943 году Андрей Синявский был призван в армию, где служил радиомехаником на аэродроме. По окончании войны поступил на филологический факультет МГУ. Записался на семинары, посвященные творчеству Владимира Маяковского. Вдохновленный творчеством замечательного поэта, написал свои первые работы «Об эстетике Маяковского» и «Основные принципы эстетики Маяковского». В 1952 году, защитив кандидатскую диссертацию, Синявский поступил на работу в Институт мировой литературы имени М. Горького и вел в МГУ семинары по русской поэзии ХХ века, одновременно преподавая русскую литературу в школе-студии МХАТ.
Постепенно его начали узнавать и ценить как автора литературоведческих исследований о творчестве М.Горького, Б.Л. Пастернака, И.Э. Бабеля и А.А. Ахматовой, публиковавшихся в «Новом мире». Однако Синявский видел себя прозаиком. Переполненный идеями фантастических, во многом гротескных размышлений, критикующих советское общество, он понимал, что не сможет публиковаться в СССР — цензура ни за что не пропустит. И тогда под псевдонимом Абрам Терц, Андрей Синявский начал печататься на западе. В свет вышли такие произведения, как «Ты и я», «В цирке», «Квартиранты», «Графоманы (Из рассказов о моей жизни)», «Гололедица», «Пхенц», «Суд идет», а также повесть «Любимов» и статья «Что такое социалистический реализм».
В 1943 году Андрей Синявский был призван в армию, где служил радиомехаником на аэродроме. По окончании войны поступил на филологический факультет МГУ. Записался на семинары, посвященные творчеству Владимира Маяковского. Вдохновленный творчеством замечательного поэта, написал свои первые работы «Об эстетике Маяковского» и «Основные принципы эстетики Маяковского». В 1952 году, защитив кандидатскую диссертацию, Синявский поступил на работу в Институт мировой литературы имени М. Горького и вел в МГУ семинары по русской поэзии ХХ века, одновременно преподавая русскую литературу в школе-студии МХАТ.
Постепенно его начали узнавать и ценить как автора литературоведческих исследований о творчестве М.Горького, Б.Л. Пастернака, И.Э. Бабеля и А.А. Ахматовой, публиковавшихся в «Новом мире». Однако Синявский видел себя прозаиком. Переполненный идеями фантастических, во многом гротескных размышлений, критикующих советское общество, он понимал, что не сможет публиковаться в СССР — цензура ни за что не пропустит. И тогда под псевдонимом Абрам Терц, Андрей Синявский начал печататься на западе. В свет вышли такие произведения, как «Ты и я», «В цирке», «Квартиранты», «Графоманы (Из рассказов о моей жизни)», «Гололедица», «Пхенц», «Суд идет», а также повесть «Любимов» и статья «Что такое социалистический реализм».
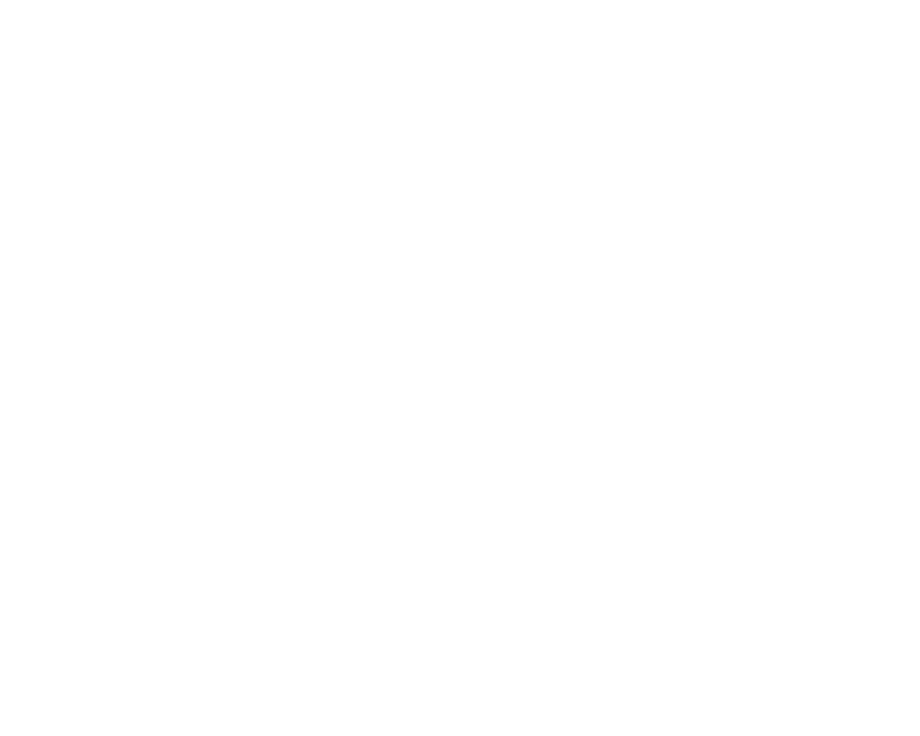
Выпускной вечер в университете. А.Д. Синявский сидит 2-й слева. Москва. 1949 г.
Позже, в «Диссидентстве как личном опыте» Андрей Донатович напишет: «…Я не видел иного выхода для своей литературной работы, чем этот скользкий путь, предосудительный в глазах государства и сопряженный с опасной игрой, когда на карту приходится ставить свою жизненную судьбу, свои человеческие интересы и привязанности. Тут уж ничего не поделаешь. Надо выбирать в самом себе между человеком и писателем. Тем более опыт писательских судеб в Советском Союзе дает понимание, что литература — это рискованный и подчас гибельный путь, а писатель, совмещающий литературу с жизненным благополучием, очень часто в советских условиях перестает быть настоящим писателем».
Существует предположение филолога Гасана Гусейнова, что книга дочери Сталина Светланы Аллилуевой под названием «Двадцать писем к другу» была адресована Андрею Донатовичу.
Существует предположение филолога Гасана Гусейнова, что книга дочери Сталина Светланы Аллилуевой под названием «Двадцать писем к другу» была адресована Андрею Донатовичу.
Произведения Синявского имели успех за рубежом. Писатель много работал. Начался их роман с Марией Розановой, на которой он вскоре решает жениться. Мария была одной из немногих, кто знал, что Синявский пересылает рукописи за границу. Талантливая молодая женщина — литератор, публицист, издатель — стала его другом и поддержкой на долгие годы.
«Перевертыш» — так писатель назвал себя в автобиографической книге «Спокойной ночи». По дороге на лекцию в школу-студию МХАТ его арестовали. КГБ стало известно, что Андрей Синявский и Абрам Терц — одно и то же лицо. Шел 1965 год.
Одновременно с Андреем арестовали еще одного писателя — Юлия Даниэля, также публиковавшего свои произведения на Западе под псевдонимом Николай Аржак. Процесс над ними, друзьями и коллегами, длился несколько месяцев. Оба были лишены свободы: Синявский приговорен к семи, а Даниэль к пяти годам колонии. Их осудили по статье 70 УК «Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления советской власти». Оба отказались признавать себя виновными.
Процесс над ними вызвал большой резонанс в обществе. В день советской Конституции 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади состоялся митинг гласности. Это событие стало первой исключительно политической демонстрацией в послевоенном Советском Союзе. Митинг организовали диссиденты и сочувствующие Синявскому и Даниэлю. Собравшиеся были разогнаны. Часть из них арестованы и увезены на двухчасовой допрос, после чего отпущены.
Со стороны властей главным общественным обличителем обвиняемых стал Михаил Шолохов. А главный редактор журнала «Знамя», известный советский писатель Всеволод Кочетов сравнил Синявского с… нацистским преступником Рудольфом Гессом, заявив, что бывший советский критик совершал литературные убийства «во имя продления на земле владычества денежных мешков». Поток телеграмм к высокопоставленным лицам СССР в защиту осужденных поражал. К сожалению, секретариат Союза писателей эту позицию не поддержал.
«Перевертыш» — так писатель назвал себя в автобиографической книге «Спокойной ночи». По дороге на лекцию в школу-студию МХАТ его арестовали. КГБ стало известно, что Андрей Синявский и Абрам Терц — одно и то же лицо. Шел 1965 год.
Одновременно с Андреем арестовали еще одного писателя — Юлия Даниэля, также публиковавшего свои произведения на Западе под псевдонимом Николай Аржак. Процесс над ними, друзьями и коллегами, длился несколько месяцев. Оба были лишены свободы: Синявский приговорен к семи, а Даниэль к пяти годам колонии. Их осудили по статье 70 УК «Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления советской власти». Оба отказались признавать себя виновными.
Процесс над ними вызвал большой резонанс в обществе. В день советской Конституции 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади состоялся митинг гласности. Это событие стало первой исключительно политической демонстрацией в послевоенном Советском Союзе. Митинг организовали диссиденты и сочувствующие Синявскому и Даниэлю. Собравшиеся были разогнаны. Часть из них арестованы и увезены на двухчасовой допрос, после чего отпущены.
Со стороны властей главным общественным обличителем обвиняемых стал Михаил Шолохов. А главный редактор журнала «Знамя», известный советский писатель Всеволод Кочетов сравнил Синявского с… нацистским преступником Рудольфом Гессом, заявив, что бывший советский критик совершал литературные убийства «во имя продления на земле владычества денежных мешков». Поток телеграмм к высокопоставленным лицам СССР в защиту осужденных поражал. К сожалению, секретариат Союза писателей эту позицию не поддержал.
«Синявский и Даниэль первыми принимают бой после чуть ли не пятидесятилетнего молчания. Их пример велик, их героизм бесспорен. Синявский и Даниэль нарушили омерзительную традицию “раскаяния” и “признаний”».
В.Т. Шаламов. Из статьи «Письмо старому другу». Журнал «Огонек». № 9 (1989 г.)
«Несогласный» — в переводе с латыни «диссидент». Пожалуй, именно с дела новомирского критика Синявского и писателя Даниэля и началось противостояние идеологическому тоталитаризму во всем соцлагере. Почему Синявский для своего литературного инкогнито выбрал такое откровенно странное «прикрытие», как псевдоним Абрам Терц? Ответ на поверхности: объяснить миру — и прежде всего самому себе — что в Советском Союзе господствует антисемитизм, а посему позволить свои «смелые» высказывания можно лишь на Западе, которому незнаком «воздух несвободы».
В августе 1968 года полумиллионная армия стран Варшавского договора — войска Советского Союза, ГДР и Польши — вступила в Чехословакию. Потеря теплых братских отношений с чехами подстегнула пробуждающееся сознание граждан СССР, что заставило руководство страны закрутить гайки.
Синявский тяжело переживал лагерный период, не понимая, как творчество могло довести его до ужаса колонии Дубровлага — совершенно чуждого ему места. Советский государственный и политический деятель Юрий Андропов принял решение помиловать Синявского, в результате «литературный заключенный» был досрочно освобожден летом 8 июня 1971 года. У тюремных ворот Андрея ждала жена Мария Розанова. Они сели в поезд Челябинск — Москва. Ошеломленные и подавленные, приближаясь к столице, они понимали, что с этого дня их жизнь больше не будет такой, как до ареста. Что же делать, как творить в стране, где за творчество ведут под суд?
Синявский тяжело переживал лагерный период, не понимая, как творчество могло довести его до ужаса колонии Дубровлага — совершенно чуждого ему места. Советский государственный и политический деятель Юрий Андропов принял решение помиловать Синявского, в результате «литературный заключенный» был досрочно освобожден летом 8 июня 1971 года. У тюремных ворот Андрея ждала жена Мария Розанова. Они сели в поезд Челябинск — Москва. Ошеломленные и подавленные, приближаясь к столице, они понимали, что с этого дня их жизнь больше не будет такой, как до ареста. Что же делать, как творить в стране, где за творчество ведут под суд?
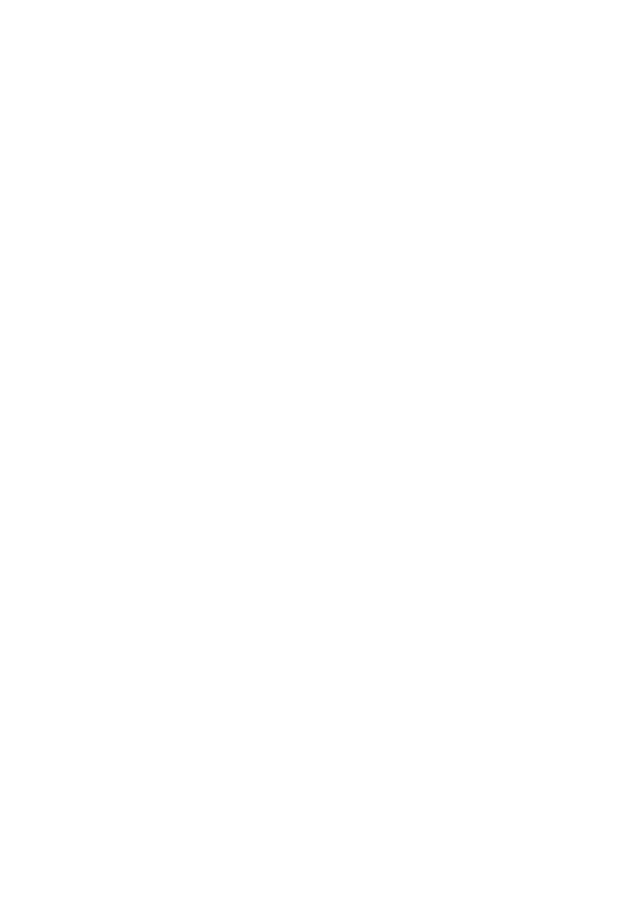
С женой М.В. Розановой. Москва. 1990 г.
В жизни писателя начался новый этап интеграции в общество, когда спустя некоторое время после освобождения, в его судьбе снова случился «перевертыш». Профессор парижского университета Сорбонна Клод Фрию пригласил Андрея Синявского во Францию на работу преподавателем русской литературы. Будучи официальными эмигрантами, что позволяло сохранить советское гражданство, Синявский и Розанова в 1973 году переехали в Париж.
Несколько слов о жене Андрея Донатовича. Мария Васильевна родилась в Витебске в 1929 году. Она получила прекрасное образование в МГУ на искусствоведческом отделении, работала в литературном музее, преподавала в студии Театра имени Моссовета, во ВГИКе и Абрамцевском художественном училище, являлась автором публикаций в популярном советском журнале «Декоративное искусство». В Париже она вела на радио «Свобода» передачу «Мы за границей».
Синявский как профессор русской литературы в университете Париж IV Сорбонна читал
лекции по русской культуры, не оставляя при том перо писателя. Однако печатать его книги на русском языке издательства не стремились. Тогда Мария Розанова приняла решение стать самостоятельным издателем. Журнал «Синтаксис» был задуман как сборник произведений Синявского. Денег на издание было крайне мало, что сподвигло ее выполнять всю основную работу, став администратором, редактором, корректором, типографом и наборщиком текстов. Помимо «Синтаксиса» Розанова, также издавала отдельные произведения супруга — «Прогулки с Пушкиным», «Опавшие листья В.В. Розанова», автобиографический роман «Спокойной ночи» и др. Журнал их всегда находился в полемике с другой периодикой русской эмиграции — журналами «Русская мысль», «Посев» и «Континент», а также оппонентом Никитой Струве, возглавлявшим издательский дом YMCА-Press.
Несколько слов о жене Андрея Донатовича. Мария Васильевна родилась в Витебске в 1929 году. Она получила прекрасное образование в МГУ на искусствоведческом отделении, работала в литературном музее, преподавала в студии Театра имени Моссовета, во ВГИКе и Абрамцевском художественном училище, являлась автором публикаций в популярном советском журнале «Декоративное искусство». В Париже она вела на радио «Свобода» передачу «Мы за границей».
Синявский как профессор русской литературы в университете Париж IV Сорбонна читал
лекции по русской культуры, не оставляя при том перо писателя. Однако печатать его книги на русском языке издательства не стремились. Тогда Мария Розанова приняла решение стать самостоятельным издателем. Журнал «Синтаксис» был задуман как сборник произведений Синявского. Денег на издание было крайне мало, что сподвигло ее выполнять всю основную работу, став администратором, редактором, корректором, типографом и наборщиком текстов. Помимо «Синтаксиса» Розанова, также издавала отдельные произведения супруга — «Прогулки с Пушкиным», «Опавшие листья В.В. Розанова», автобиографический роман «Спокойной ночи» и др. Журнал их всегда находился в полемике с другой периодикой русской эмиграции — журналами «Русская мысль», «Посев» и «Континент», а также оппонентом Никитой Струве, возглавлявшим издательский дом YMCА-Press.
«Я не могу себе представить, чтобы коммунист отнесся с безразличием к приговору, вынесенному в Москве по делу Синявского — Даниэля. Это событие, тяжкое по своим последствиям, особенно — для Франции».
Л. Арагон. Из статьи «По поводу одного процесса». Газета «Юманите». 16 февраля 1966 г.
Книга Синявского, вышедшая под псевдонимом Терца «Прогулки с Пушкиным», вызвала большой резонанс и среди читателей и особенно среди профессионалов. А статья «Литературный процесс в России» под псевдонимом того же автора в буквальном смысле слова взорвала Александра Солженицына, особенно строки об антисемитизме у нас в стране: «Это не просто переселение народа на свою историческую родину, а прежде всего и главным образом — бегство из России. Значит, пришлось солоно. Значит — допекли. Кое-кто сходит с ума, вырвавшись на волю. Кто-то бедствует, ищет, к чему бы русскому прислониться в этом раздольном, безвоздушном, чужеземном море. Но все бегут, бегут. Россия — Мать, Россия — Сука, ты ответишь и за это очередное вскормленное тобою и выброшенное потом на помойку, с позором — дитя!..» — Терц-Синявский открыто смеялся над теми, кто в бедах России осуждает не себя, а детей Моисея…
В стенах родного отечества диссидентство, его полуподпольная романтика — понятие, сопряженное с полным нарушением жизненного спокойствия — своего и близких. А «за бугром» романтика улетучивается, теряет градус героизма, становится пресной повседневностью и совсем уже не выглядит подвигом, при удачном стечении обстоятельств даря спокойствие и благополучие.
Сложно сказать, какое влияние оказало диссидентство на самого Синявского. Было ли это личной трагедией, личным достижением или всего лишь личным опытом? Склонимся к тому, что все же диссидентство стало его личной трагедией. До последних своих дней именно диссидентство мучило и терзало Андрея Донатовича как творческую личность.
Сложно сказать, какое влияние оказало диссидентство на самого Синявского. Было ли это личной трагедией, личным достижением или всего лишь личным опытом? Склонимся к тому, что все же диссидентство стало его личной трагедией. До последних своих дней именно диссидентство мучило и терзало Андрея Донатовича как творческую личность.
25 февраля 1997 года он скончался и был похоронен под Парижем в Фонтане -о-Роз. Московский священник Владимир Вигилянский отпевал его. На похоронах присутствовали Андрей Вознесенский и Виталий Третьяков.
«Свобода! Писательство — это свобода», — писал Синявский. Однако был ли он по-настоящему свободен? Психологические оковы диссидентства не давали ему спокойно ходить даже по улицам демократического Парижа.
«Россия не может в полной мере стать правовым государством и занять ведущую роль в мировом сообществе, не увековечив память миллионов своих граждан, ставших жертвами политических репрессий» — такова концепция правительства Российской Федерации по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, узников ГУЛАГа.
Осенью 1991 года в газете «Известия» было опубликовано сообщение о реабилитации Тимофеева-Ресовского и Царапкина, Синявского и Даниэля из-за «отсутствия в их действиях состава преступления» — пересмотр их дел закончен. Это защита чести и достоинства человека, его единственной жизни. Это память о людях, судьбы которых были трагически оборваны сложнейшей историей нашей страны.
«Свобода! Писательство — это свобода», — писал Синявский. Однако был ли он по-настоящему свободен? Психологические оковы диссидентства не давали ему спокойно ходить даже по улицам демократического Парижа.
«Россия не может в полной мере стать правовым государством и занять ведущую роль в мировом сообществе, не увековечив память миллионов своих граждан, ставших жертвами политических репрессий» — такова концепция правительства Российской Федерации по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, узников ГУЛАГа.
Осенью 1991 года в газете «Известия» было опубликовано сообщение о реабилитации Тимофеева-Ресовского и Царапкина, Синявского и Даниэля из-за «отсутствия в их действиях состава преступления» — пересмотр их дел закончен. Это защита чести и достоинства человека, его единственной жизни. Это память о людях, судьбы которых были трагически оборваны сложнейшей историей нашей страны.
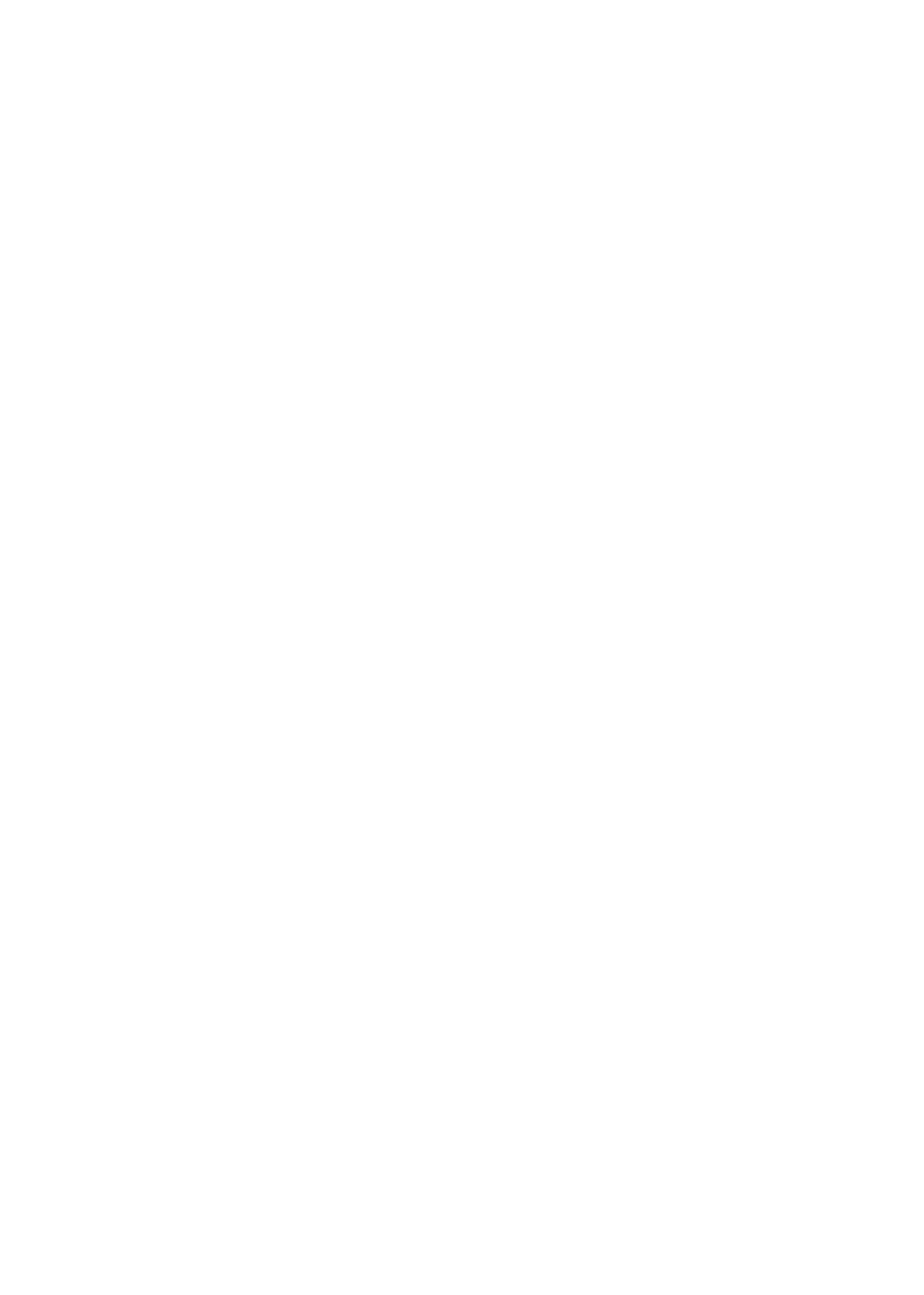
Мадрид. Песни под гитару для героев Сервантеса
Эмигрировав, А.Д. Синявский читал лекции в Сорбонне. От европейских издательств он получил несколько предложений о публикации, но в конце концов вместе с женой М.В. Розановой создал собственный журнал и печатался там