Княжна на пиру у Всеблагих
Зинаида Алексеевна Шаховская
(1906–2001)
(1906–2001)
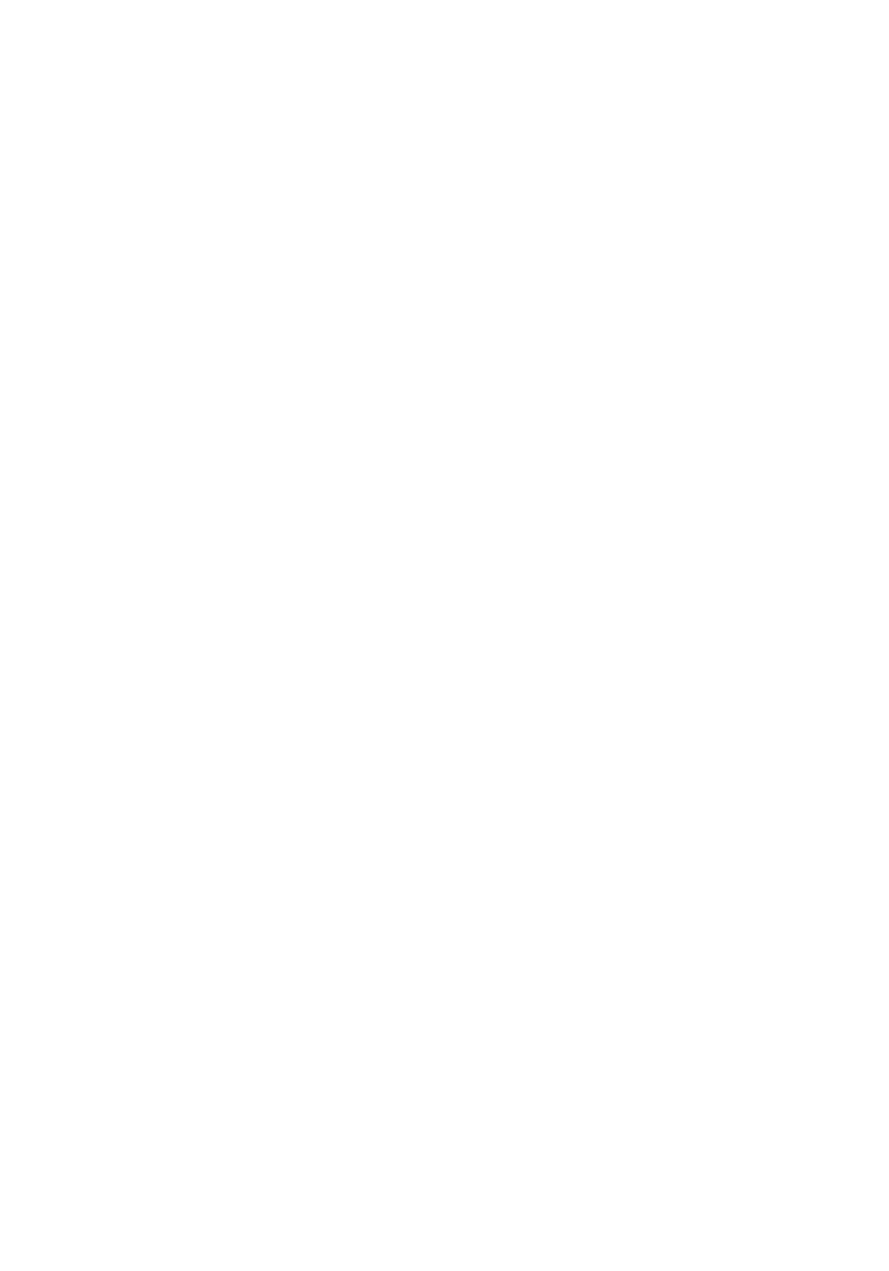
Шаховская в Вене: куда ни забросит журналистская судьба!
По окончании Второй мировой войны З.А. Шаховская работала корреспондентом. В своих мемуарах она пишет о странах и городах послевоенной Европы, в том числе о Вене: «Проведя здесь некоторое время, замечаешь, что Вена по сравнению с Берлином не очень пострадала от войны, в ней было намного меньше руин, однако моральный дух ее жителей был слишком подорван»
По окончании Второй мировой войны З.А. Шаховская работала корреспондентом. В своих мемуарах она пишет о странах и городах послевоенной Европы, в том числе о Вене: «Проведя здесь некоторое время, замечаешь, что Вена по сравнению с Берлином не очень пострадала от войны, в ней было намного меньше руин, однако моральный дух ее жителей был слишком подорван»
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
30 августа (12 сентября) 1906 г. — родилась в Москве
1920 г. — эмигрировала в Константинополь с семьей
Конец 1920-х гг. — начала литературную деятельность
1926 г. — выходит замуж за Святослава Малевского-Малевича
1934 г. — выпускает поэтический сборник «Уход»
1945–1950-е гг. — литературная и журналистская работа
1956–1957 гг. — жила в Москве с мужем — 1-м секретарем Бельгийского посольства
11 июня 2001 г. — скончалась в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем
30 августа (12 сентября) 1906 г. — родилась в Москве
1920 г. — эмигрировала в Константинополь с семьей
Конец 1920-х гг. — начала литературную деятельность
1926 г. — выходит замуж за Святослава Малевского-Малевича
1934 г. — выпускает поэтический сборник «Уход»
1945–1950-е гг. — литературная и журналистская работа
1956–1957 гг. — жила в Москве с мужем — 1-м секретарем Бельгийского посольства
11 июня 2001 г. — скончалась в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем
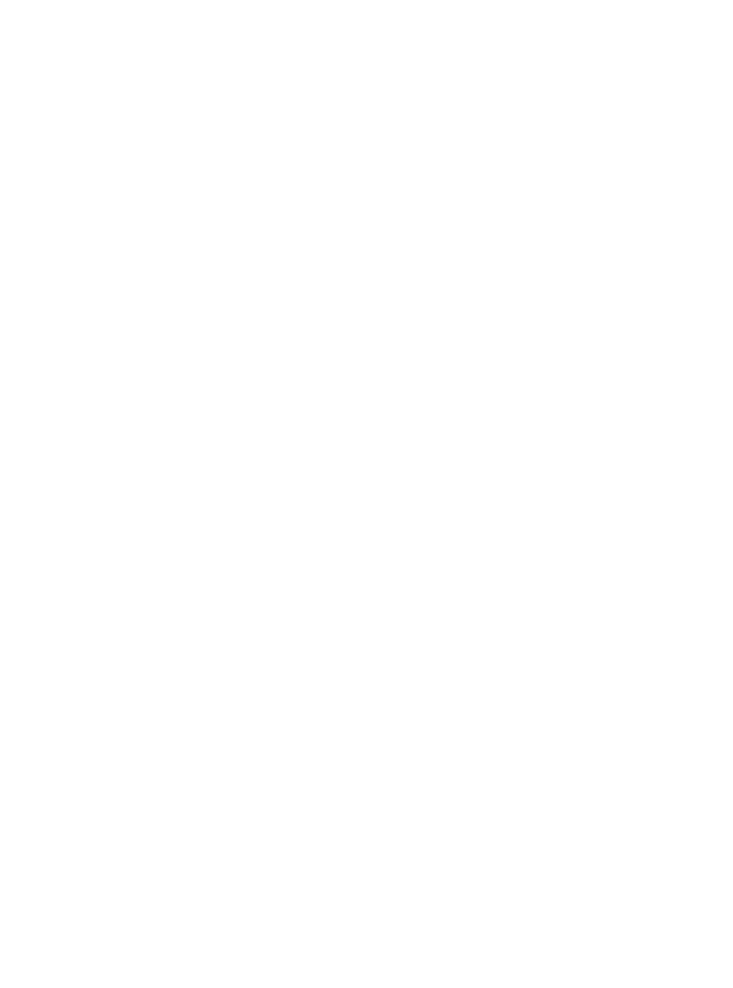
З.А. Шаховская. Конец 1940-х гг.
В 1989 году советский литературовед Игорь Попов встретился в Париже с легендарной Зинаидой Шаховской, о которой многие годы до того принято было упоминать лишь как о враге советской власти. Но в стране уже была перестройка и гласность, повеяло свежестью, и для советского человека, вдохнувшего свободы, встреча с настоящей аристократкой, сохранившей веру и культуру тысячелетней России, принадлежавшей еще к самой первой волне эмиграции, была поистине фантастической — чем-то вроде свидания с ангелом Господним.
83-летняя живая легенда приняла гостя по-русски — пряниками, баранками и горячим чаем. «Из Москвы?.. Ну вот, как из Москвы, так сразу княгиня. А я ведь княжна — мой отец был князем… Я свидетельница своего времени, правдивая свидетельница. Я видела, как русская культура раскололась на острова. Не просто часть писателей уехала за границу, — а откололись островки культуры со всеми институтами — школой, театрами, газетами, издательствами, церковью, наконец. Единая культура была разорвана на части. Вот я и пытаюсь собрать эти острова… Я, между прочим, за гласность уже более семидесяти лет…»
Ей оставалось тогда еще двенадцать лет жизни. Зинаида Шаховская умерла в 2001 году в парижском доме престарелых в возрасте девяноста пяти лет. Кругом семимильными шагами завоевывает мир технический прогресс: эпоха мировой модернизации, новый царь которой — Компьютер. Появляются мобильная связь, электронные письма, когда можно связаться из Москвы с Нью-Йорком и получить ответ через минуту. Не за горами и видеосвязь — мечта о воссоединении семей, разлученных жестоким двадцатым веком, сбывается на глазах!
Интересно, что сказала бы на все это Зинаида Шаховская?
83-летняя живая легенда приняла гостя по-русски — пряниками, баранками и горячим чаем. «Из Москвы?.. Ну вот, как из Москвы, так сразу княгиня. А я ведь княжна — мой отец был князем… Я свидетельница своего времени, правдивая свидетельница. Я видела, как русская культура раскололась на острова. Не просто часть писателей уехала за границу, — а откололись островки культуры со всеми институтами — школой, театрами, газетами, издательствами, церковью, наконец. Единая культура была разорвана на части. Вот я и пытаюсь собрать эти острова… Я, между прочим, за гласность уже более семидесяти лет…»
Ей оставалось тогда еще двенадцать лет жизни. Зинаида Шаховская умерла в 2001 году в парижском доме престарелых в возрасте девяноста пяти лет. Кругом семимильными шагами завоевывает мир технический прогресс: эпоха мировой модернизации, новый царь которой — Компьютер. Появляются мобильная связь, электронные письма, когда можно связаться из Москвы с Нью-Йорком и получить ответ через минуту. Не за горами и видеосвязь — мечта о воссоединении семей, разлученных жестоким двадцатым веком, сбывается на глазах!
Интересно, что сказала бы на все это Зинаида Шаховская?
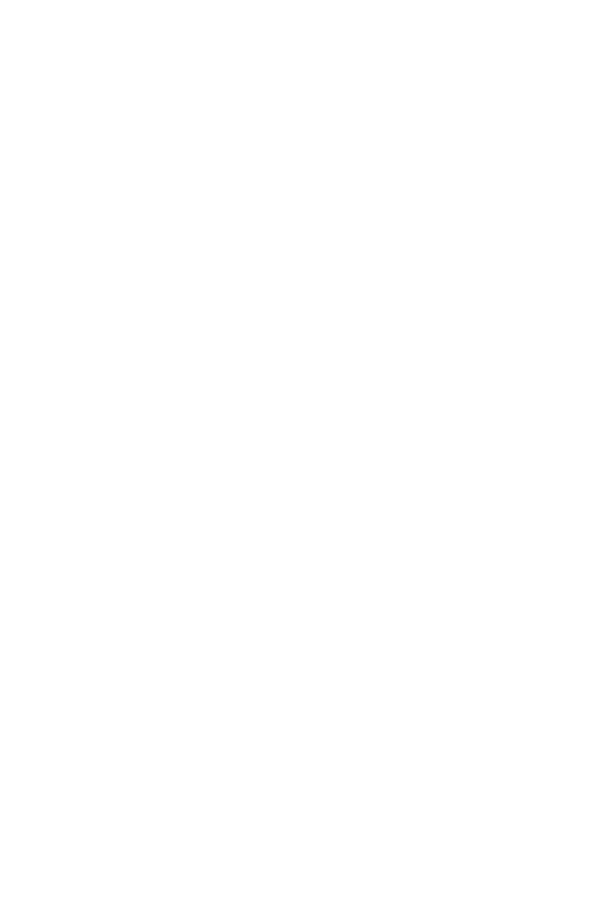
З.А. Шаховская. Около 1925 г.
Что ей технические новшества, когда она видела сей мир в его истинно роковые минуты? Была живой свидетельницей, а то и участницей Истории и уж во всяком случае — гостьей на пиру у Всеблагих, как сказал бы великий русский поэт Федор Тютчев.
Среди знаменитых предков родовитой княжны — Карло Росси (тот самый, чьим именем названа красивейшая улица Петербурга и чей бюст украшает сегодня Итальянский сквер) и Мусин-Пушкин, обнаруживший рукопись «Слова о полку Игореве». Это те, кого знает вся Россия; есть множество других — род свой Шаховские ведут от Рюриковичей, он большой и ветвистый, были в нем священнослужители и генералы, писатели и политические деятели, уездные предводители и столичные светские львы. Российское дворянство вообще было целым миром со своими традициями и внутренней борьбой предрассудков. Уж на что Пушкин всегда пользовался репутацией бунтаря, вечно оправдывавшегося перед начальством за нарушение предписаний, а вот заметил же и он в письме П.А. Плетневу: «Ты прав, любимец муз, — должно быть аккуратным, хотя это и немецкая добродетель; не худо быть и умеренным, хотя Чацкий и смеется над этими двумя талантами».
Среди знаменитых предков родовитой княжны — Карло Росси (тот самый, чьим именем названа красивейшая улица Петербурга и чей бюст украшает сегодня Итальянский сквер) и Мусин-Пушкин, обнаруживший рукопись «Слова о полку Игореве». Это те, кого знает вся Россия; есть множество других — род свой Шаховские ведут от Рюриковичей, он большой и ветвистый, были в нем священнослужители и генералы, писатели и политические деятели, уездные предводители и столичные светские львы. Российское дворянство вообще было целым миром со своими традициями и внутренней борьбой предрассудков. Уж на что Пушкин всегда пользовался репутацией бунтаря, вечно оправдывавшегося перед начальством за нарушение предписаний, а вот заметил же и он в письме П.А. Плетневу: «Ты прав, любимец муз, — должно быть аккуратным, хотя это и немецкая добродетель; не худо быть и умеренным, хотя Чацкий и смеется над этими двумя талантами».
Зинаида Шаховская прожила очень долгую жизнь; много занималась литературным трудом, а ее великолепные мемуары «Таков мой век» (написаны по-французски, но вышли и в русском переводе: М., Русский путь, 2006) остаются в ряду важнейших художественных источников эмигрантского быта. И все же «любимицами муз и граций» обычно называют женщин совсем иного типа. А вот ее от многих бед и духовных эмигрантских болезней предохранили два этих качества служилого дворянства: умеренность и аккуратность.
Без особых иллюзий рассказывает она о детстве в предреволюционной России (хотя странно вдруг теплеет ее голос, когда ей случается отметить благородство или стихийный талант в представителях простонародья, даже в тех, кто безжалостен к дворянам), и о бегстве семьи: эта ветвь семейства Шаховских бежала на юг к Врангелю, потом в Константинополь, где княжна получила первое образование, потом в Брюссель, «вообще очень радушно и благородно принявший первую волну эмиграции», и наконец в крупнейший центр эмигрантов погибшей империи — Париж, где она работала в журнале, основанном ее братом Дмитрием. Любопытно и название журнала, вполне монархическое, когда монарха уже нет в живых: «Благонамеренный». Так началась литературная деятельность Зинаиды Шаховской.
Без особых иллюзий рассказывает она о детстве в предреволюционной России (хотя странно вдруг теплеет ее голос, когда ей случается отметить благородство или стихийный талант в представителях простонародья, даже в тех, кто безжалостен к дворянам), и о бегстве семьи: эта ветвь семейства Шаховских бежала на юг к Врангелю, потом в Константинополь, где княжна получила первое образование, потом в Брюссель, «вообще очень радушно и благородно принявший первую волну эмиграции», и наконец в крупнейший центр эмигрантов погибшей империи — Париж, где она работала в журнале, основанном ее братом Дмитрием. Любопытно и название журнала, вполне монархическое, когда монарха уже нет в живых: «Благонамеренный». Так началась литературная деятельность Зинаиды Шаховской.
«Мне посчастливилось провести свое тревожное детство в мире, где подлецов было мало, а героев много. Слово “герой” сегодня вызывает улыбку. Для меня же оно не потеряло своей ценности».
З.А. Шаховская. «Таков мой век» (2006 г.)
Голос вспоминающей Шаховской холоден и даже часто строг, — но сколько оттенков, сколько переливов таит в себе эта кажущаяся отчужденной писательская наблюдательность!.. Да, ей свойственно подмечать черточки смешные или рассказывать истории не очень приятные. Супруги Ремизовы выходят у нее отчаянными сплетниками, а великий писатель Алексей Ремизов — еще и врун, да к тому же в денежных вопросах!.. Сутин «пьяный и вечно грязный». Вообще русский Монпарнас — богемный сброд без гроша в кармане (можно подумать, что сама Шаховская жила в те годы лучше; вовсе нет, — но ее-то водил по дешевым монпарнасским кабачкам стареющий французский аристократ, галантный и богатый!). А у Бунина «сухой и отчужденный взгляд» — вот наконец собрат по сословию, чье высокомерие почти вошло в пословицу! И вдруг холодная голубая кровь едва заметно вспыхивает насмешливыми ледяными огоньками, когда княжна рассказывает о встреченной в зимнем итальянском курортном городке старой русской графине, прожигающей жизнь, похоронившей несколько мужей и теперь меняющей молодых любовников. Она уже наметила явно небогатую семью Шаховских себе в приживалы, потому что «старой графине скучно…» И, конечно, она не успела заметить, что угодила на острый язычок писательницы. Вот и встретились две крайности дворянского воспитания… Не в эти ли годы Зинаида Шаховская написала одно из самых пронзительных своих стихотворений:
Без денег, даже без друзей
И в шуме городском, отравном,
Богаче тот, кто всех бедней
Светлее, чище и бесславней…
И в шуме городском, отравном,
Богаче тот, кто всех бедней
Светлее, чище и бесславней…
В Париже княжна Шаховская встретила будущего мужа — князя Святослава Малевского-Малевича. Найдется ли еще в каких-нибудь мемуарах описание любви столь отчужденное? «Мы встретились… он мне не понравился. Долговяз. Не уклюж. В сущности, мы оба были неудачниками. Долго гуляли по Люксембургскому саду… Ну а потом, в общем, поженились».
Да разве так описывают любовь?!.. Но любовь-то несомненно была — брак оказался счастливым!.. Не здесь ли оборотная сторона «умеренности и аккуратности», над которыми издевался грибоедовский герой: может быть, это внутренняя цельность, целомудрие не позволили ей пускаться в подробности собственных переживаний? Святослав Малевский-Малевич увлекался в те годы евразийством. Он переправлял листовки и брошюры, пока евразийство не было окончательно разгромлено в СССР. И тогда жизнь его жены превратилась в настоящий приключенческий роман. Сама княжна описывает это вскользь… Но представим себе, как молодая, яркая дама приходит в портовый кабачок Антверпена и скромно садится за пустой столик. Она кого-то ждет… Наконец входит мрачный худой господин, старательно прикрывая лицо шляпой. Она передает ему сверток — и он уходит, не сказав ей ни слова…
Да разве так описывают любовь?!.. Но любовь-то несомненно была — брак оказался счастливым!.. Не здесь ли оборотная сторона «умеренности и аккуратности», над которыми издевался грибоедовский герой: может быть, это внутренняя цельность, целомудрие не позволили ей пускаться в подробности собственных переживаний? Святослав Малевский-Малевич увлекался в те годы евразийством. Он переправлял листовки и брошюры, пока евразийство не было окончательно разгромлено в СССР. И тогда жизнь его жены превратилась в настоящий приключенческий роман. Сама княжна описывает это вскользь… Но представим себе, как молодая, яркая дама приходит в портовый кабачок Антверпена и скромно садится за пустой столик. Она кого-то ждет… Наконец входит мрачный худой господин, старательно прикрывая лицо шляпой. Она передает ему сверток — и он уходит, не сказав ей ни слова…
«Жизнь шла своим чередом, то есть плохо, мир сам себе готовил то, что должно было с ним случиться».
З.А. Шаховская. «Таков мой век» (2006 г.)
Во время Второй мировой Шаховская участвовала в Сопротивлении, работая редактором французского информагентства в Лондоне. Уже прославившись в эмигрантских кругах как поэтесса, она бросила сочинять стихи («Вдруг мне представилось, что сочинять современные стихи не так уж и сложно, и я потеряла к ним всякий интерес») и начала писать романы, статьи и эссе. Сегодня, между прочим, их названия вошли в пословицы: «Веселое имя Пушкина» или «Храни несказанное слово»…
Судя по ее мемуарам, Зинаида Шаховская никогда не считала себя большим писателем. Литературная работа была для нее скорее профессией, чем призванием. Но, оглядываясь на прожитое, на историю России (она написала целое эссе о преобразованиях Петра Великого), пытаясь понять трагедию родины, она иногда выдает нечто, поистине достойное пера Достоевского. Вот одно из воспоминаний писателя-демократа, пересказанное Шаховской. После революции 1905 года мятежно настроенных студентов сослали на поселение в глушь. Там молодые люди продолжали горячо обсуждать грядущее преобразование России. «Укрывшись где-то в деревне среди полей, они проводили дни и ночи в страстных дискуссиях, иногда идеологических, иногда практических, то есть касавшихся организации революции, способов проведения террористических актов. Однажды надо было по самой прозаической причине зарезать петуха. Превосходная тренировка для террориста». Узнаете «колкий», ледяной стиль и бесстрастную психологическую наблюдательность княжны Шаховской? «Никто не взял на себя столь почетную задачу: пришлось бросать жребий. И вот человек, выбранный по жребию, с решительным видом взял нож, схватил в охапку петуха и зашел за избу. …Вскоре раздалось бешеное кудахтанье, ругательства, крики; окровавленный петух вырвался и начал бегать, сея панику среди кур, в то время как начинающий террорист ловил его и кричал: “Кончайте, кончайте его!” и был так бледен, что ему дали сердечные капли. <…> В этот момент отважная крестьянка, работавшая у коммунаров, — тогда даже революционеры не могли обходиться без домашней прислуги, — с презрением посмотрела на этих людей, которые не могли толком убить даже петуха, взяла кухонный нож и… без гримас и причитаний ловко отрубила жертве голову». И Зинаида Шаховская с поистине сардоническим юмором великого автора «Бесов» замечает: «Всегда можно доверить нашему доброму народу пустить в ход самые смелые идеи интеллектуалов».
«Меня поражала полная неприспособленность интеллектуалов к практической жизни. Сегодня эти почти всемогущие люди замышляют революции, но — за редким исключением — не умеют воспользоваться их результатами, они со своими комплексами оторваны от жизни…»
З.А. Шаховская. «Таков мой век» (2006 г.)
Почти ровесница века, она была человеком своего времени, никак не располагавшего к благодушию и оптимизму. Потому и один из лейтмотивов ее воспоминаний — тема хрупкости цивилизационного слоя на душе человеческой. Она словно готова повторить за Достоевским: сколько же всего в человеке намешано! Однажды во время оккупации немцами Парижа ей случилось видеть отвратительную сцену: толпа щеголеватых французов оплевала старого еврея, ветерана войны под Верденом. Возмущенная Шаховская осталась верна себе и выдала полное аристократизма замечание: «Культура — слой чрезвычайно тонкий. Вполне вероятно, что люди, оскорблявшие полковника В., плевали потом, в день вступления танков Леклерка в Париж, в безоружных немцев и брили головы женщинам…» Невеселая мудрость страшного ушедшего столетия, она прошла сквозь сердце русской эмиграции, как расколовшая мир трещина, по словам Гейне, проходит через сердце поэта.
Но куда девается вся ее холодность и острый язык, когда речь заходит о людях, по-настоящему ею любимых и почитаемых!.. Это все великие имена эмиграции: Ходасевич, Дон Аминадо, особенно Марина Цветаева, «дикая, порывистая… одинокая дикарка… с оголенными нервами». А о Владимире Набокове, с которым в молодости Шаховская дружила, она написала целую книгу, полную живейшей симпатии.
«Взамен родины-призрака я искала другую родину, хотя и не собиралась забывать страну, где появилась на свет…» Никогда она не забывала Россию.
А вот обрести во Франции вторую родину Зинаиде Шаховской удалось. Она немало ей послужила и удостоилась звания кавалера ордена Почетного легиона и офицера ордена Искусств и литературы. В 1956–1957 годах Шаховская даже жила в Москве на дипломатической службе. Но это уже совсем другая история…
А в истории русской эмиграции эта удивительная женщина — одна из тех, кто оставил нам бесценные портреты современников, живые строки эмигрантской печали, полные горечи и боли от раскола надвое русской культуры ХХ века. Одна из последних книг Зинаиды Шаховской так и называлась: «Одна или две русские литературы?» А ведь ответа на этот вопрос нет по сей день…
«Взамен родины-призрака я искала другую родину, хотя и не собиралась забывать страну, где появилась на свет…» Никогда она не забывала Россию.
А вот обрести во Франции вторую родину Зинаиде Шаховской удалось. Она немало ей послужила и удостоилась звания кавалера ордена Почетного легиона и офицера ордена Искусств и литературы. В 1956–1957 годах Шаховская даже жила в Москве на дипломатической службе. Но это уже совсем другая история…
А в истории русской эмиграции эта удивительная женщина — одна из тех, кто оставил нам бесценные портреты современников, живые строки эмигрантской печали, полные горечи и боли от раскола надвое русской культуры ХХ века. Одна из последних книг Зинаиды Шаховской так и называлась: «Одна или две русские литературы?» А ведь ответа на этот вопрос нет по сей день…
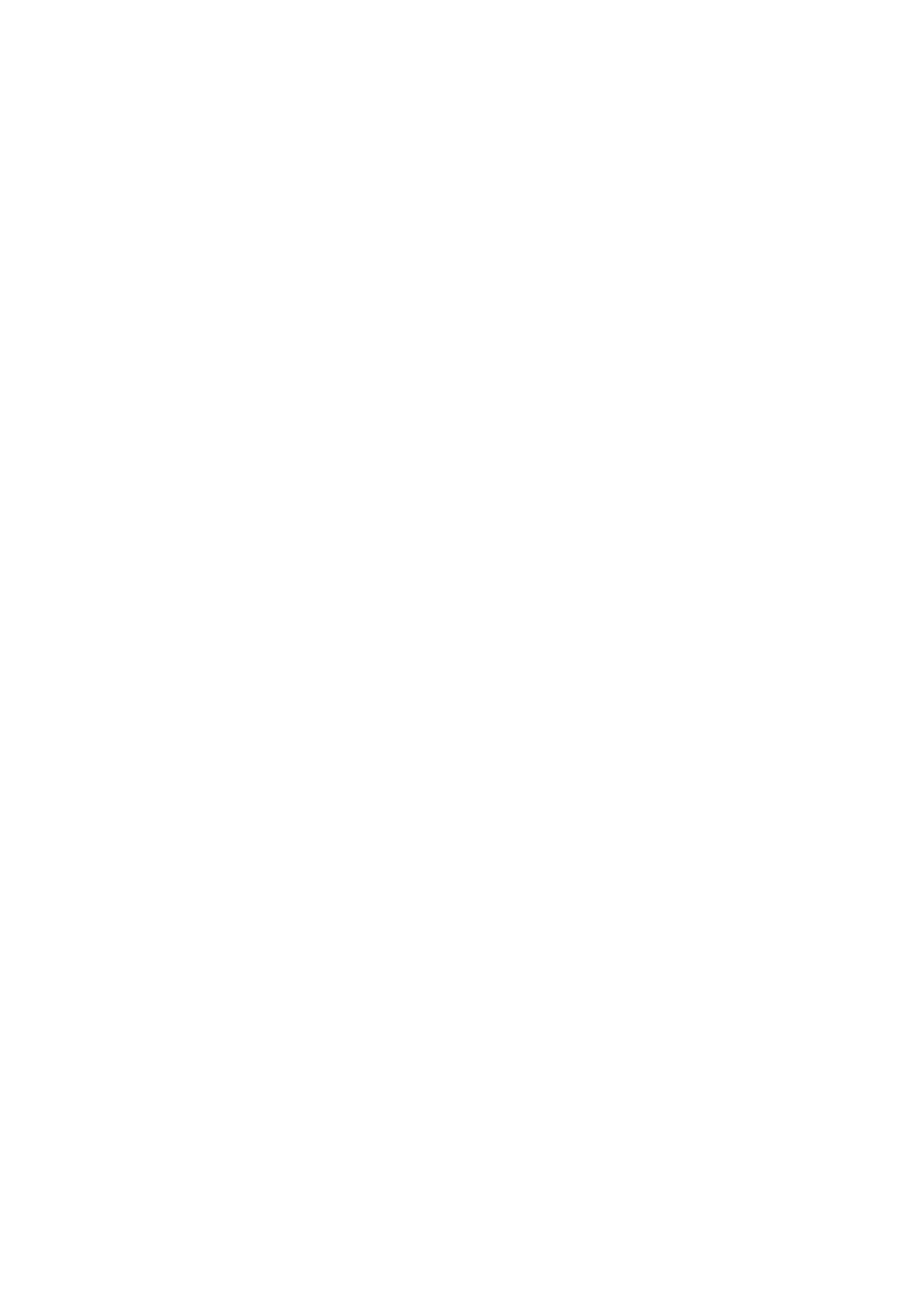
Гавань венецианских гондол
В 1945–1948 годах З. А. Шаховская работала военным корреспондентом при союзных армиях и побывала во многих европейских странах, включая Италию