«Сверхъестественный» художник
Марк Захарович Шагал
(1887–1985)
(1887–1985)
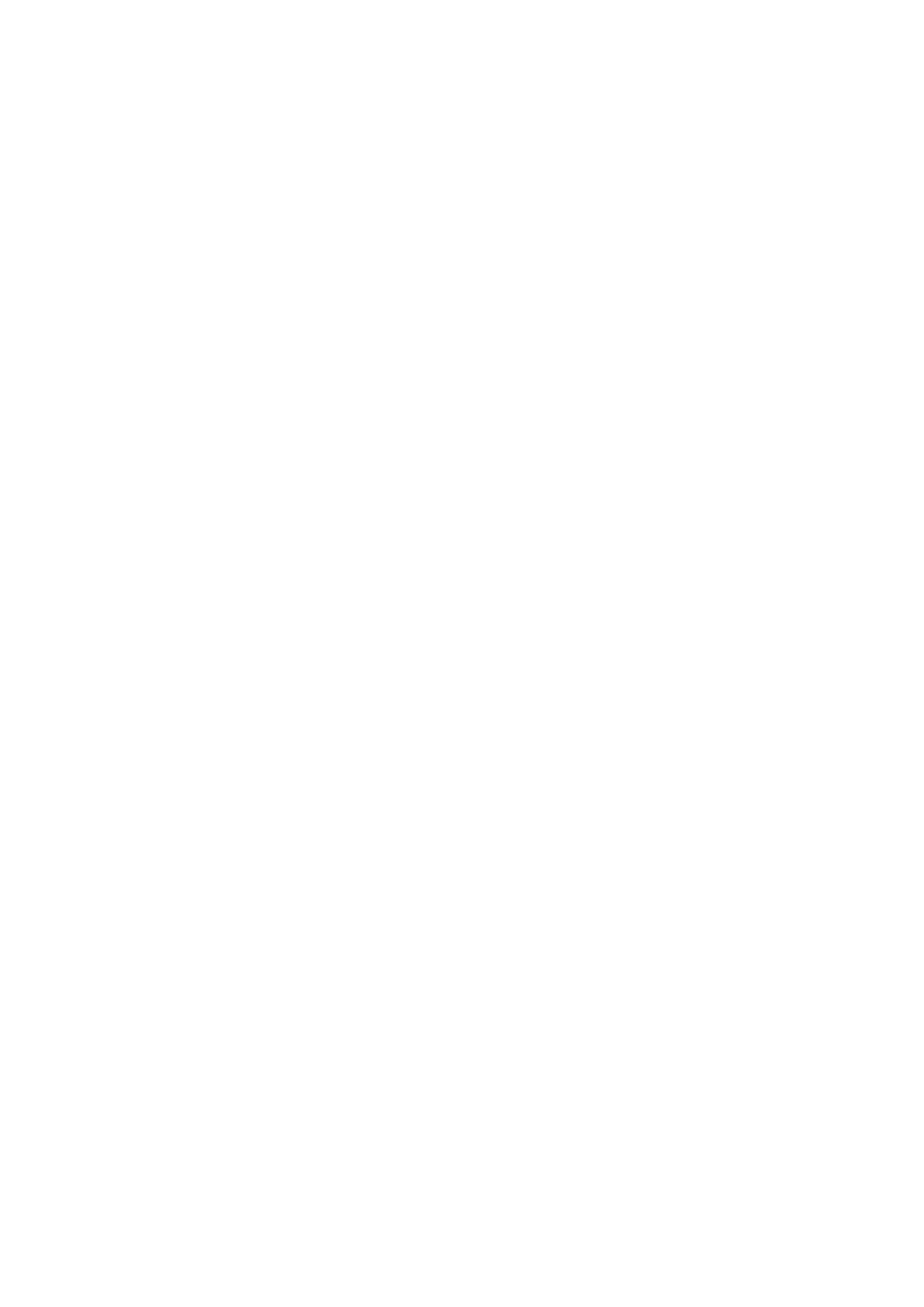
Над крышами Парижа
Жизнь Марка Шагала тесно связана со столицей Франции. В 1964 году Шагал расписал плафон парижской Гранд-опера по заказу Шарля де Голля
Жизнь Марка Шагала тесно связана со столицей Франции. В 1964 году Шагал расписал плафон парижской Гранд-опера по заказу Шарля де Голля
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
7 (19) июля 1887 г. — родился в Витебске
1909—1911 гг. — занятия у Л.С. Бакста в художественной школе Е.Н. Званцевой
1915 г. — служба в Военно-промышленном комитете
1919 г. — открытие Витебского художественного училища
1920—1921 гг. — работа в Московском еврейском камерном театре
1922—1923 гг. — переезд с семьей в Литву, затем в Германию, а потом во Францию, начало жизни в Париже
1941 г. — переезд в США по приглашению Музея современного искусства в Нью-Йорке
1947 г. — возвращение во Францию
1977 г. — награждение Большим крестом ордена Почетного легиона
28 марта 1985 г. — скончался в Сен-Поль-де-Ванс (Прованс, Франция), похоронен на местном кладбище
7 (19) июля 1887 г. — родился в Витебске
1909—1911 гг. — занятия у Л.С. Бакста в художественной школе Е.Н. Званцевой
1915 г. — служба в Военно-промышленном комитете
1919 г. — открытие Витебского художественного училища
1920—1921 гг. — работа в Московском еврейском камерном театре
1922—1923 гг. — переезд с семьей в Литву, затем в Германию, а потом во Францию, начало жизни в Париже
1941 г. — переезд в США по приглашению Музея современного искусства в Нью-Йорке
1947 г. — возвращение во Францию
1977 г. — награждение Большим крестом ордена Почетного легиона
28 марта 1985 г. — скончался в Сен-Поль-де-Ванс (Прованс, Франция), похоронен на местном кладбище
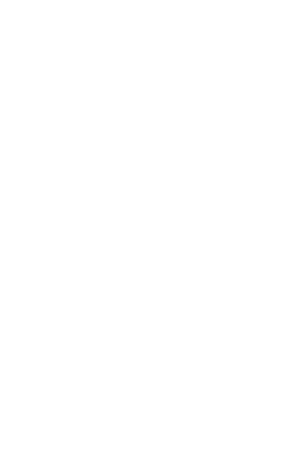
М.З. Шагал. Париж. Около 1925 г.
В городе Витебске по сей день живет легенда, передаваемая из поколения в поколение, о том, что на центральной площади с балкона двухэтажного дома произнес свою короткую, но пламенную речь Александр Суворов. Неизвестно, какими военными дорогами занесло генералиссимуса в эти края, только в достоверность этой были хочется верить. Бесспорен другой исторический факт: в конце XIX столетия — впервые в Российской империи — по витебским улочкам задребезжал трамвай. Первый общественный транспорт в стране!
Третье же событие, которым по-настоящему могут гордиться не только витебчане, произошло
в 1887 году. 7 июля в Песковатиках, наибеднейшем районе города, родился мальчик. Родился будто бы мертвым. Словно решил свести счеты с жизнью, еще не познав ее. «Как будто насмотрелся картин Шагала!» — так иронично уже в зрелые годы Марк Шагал отзывался о своем драматичном появлении на свет. Исколотое грубой булавкой, окунаемое в корыто с ледяной водой, избитое по щекам маленькое безжизненное тельце после нескольких часов борьбы соседки-повитухи, наконец, соизволило подать признаки жизни. Кто бы мог предположить, что это — будущий художник. И какой! До конца не познанный.
Загадочный из загадочных. Самый признанный из художников русской эмиграции, оказавшихся за рубежом. Великий маг кисти и пера, убежденный в том, что творчество невозможно без толики ирреального: «Ничего мне не было так противно в искусстве, как работа мозга, интеллектуализм… Я художник сознательно-неосознанный». Но какой интеллектуализм требуется от нас, зрителей, чтобы расшифровать его эзопово-изобразительный язык!
Отец Марка работал грузчиком на селедочном складе. Богатырского сложения, он ежедневно поднимал тонны бочек, но даже такая силища не защитила его от гибели, когда произошел несчастный случай. Мать торговала рыбой в крошечной лавке. Растила девятерых ребятишек — семь девочек и двоих мальчиков. Первенцем был Марк. Когда пришло время учебы, мать собрала все деньги, что были в доме, и отвела свое златокудрое дитя в местное четырехклассное ремесленное училище.
Третье же событие, которым по-настоящему могут гордиться не только витебчане, произошло
в 1887 году. 7 июля в Песковатиках, наибеднейшем районе города, родился мальчик. Родился будто бы мертвым. Словно решил свести счеты с жизнью, еще не познав ее. «Как будто насмотрелся картин Шагала!» — так иронично уже в зрелые годы Марк Шагал отзывался о своем драматичном появлении на свет. Исколотое грубой булавкой, окунаемое в корыто с ледяной водой, избитое по щекам маленькое безжизненное тельце после нескольких часов борьбы соседки-повитухи, наконец, соизволило подать признаки жизни. Кто бы мог предположить, что это — будущий художник. И какой! До конца не познанный.
Загадочный из загадочных. Самый признанный из художников русской эмиграции, оказавшихся за рубежом. Великий маг кисти и пера, убежденный в том, что творчество невозможно без толики ирреального: «Ничего мне не было так противно в искусстве, как работа мозга, интеллектуализм… Я художник сознательно-неосознанный». Но какой интеллектуализм требуется от нас, зрителей, чтобы расшифровать его эзопово-изобразительный язык!
Отец Марка работал грузчиком на селедочном складе. Богатырского сложения, он ежедневно поднимал тонны бочек, но даже такая силища не защитила его от гибели, когда произошел несчастный случай. Мать торговала рыбой в крошечной лавке. Растила девятерых ребятишек — семь девочек и двоих мальчиков. Первенцем был Марк. Когда пришло время учебы, мать собрала все деньги, что были в доме, и отвела свое златокудрое дитя в местное четырехклассное ремесленное училище.
«Захватив двадцать семь рублей — единственные за всю жизнь деньги, которые отец дал мне на художественное образование, — я, румяный и кудрявый юнец, отправляюсь в Петербург вместе с приятелем. Решено! Слезы и гордость душили меня, когда я подбирал с пола деньги — отец швырнул их под стол. Ползал и подбирал. На отцовские расспросы я, заикаясь, отвечал, что хочу поступить в школу искусств… Какую мину он скроил и что сказал, не помню точно. Вернее всего, сначала промолчал, потом, по обыкновению, разогрел самовар, налил себе чаю и уж тогда, с набитым ртом, сказал: “Что ж, поезжай, если хочешь. Но запомни: денег у меня больше нет. Сам знаешь. Это все, что я могу наскрести. Высылать ничего не буду. Можешь не рассчитывать”».
М.З. Шагал. «Моя жизнь» (1922 г.)
А Марка тянуло к рисованию. И однажды он решился показать ей, самому близкому человеку, свои «почеркушки»: «Мать рассматривает картину. Господи, какие у нее глаза! Я жду. Потом она говорит: “Я, сынок, вижу и вправду у тебя способности… Но лучше бы ты шел в приказчики с твоими-то плечами”». И все же она постучалась в двери серого покосившегося здания, где красовалась интригующая вывеска: «Школа живописи и рисования художника Пэна». Тот встретил их довольно прохладно. Со строгим педагогом вскоре пришлось расстаться.
А рисовать так хотелось! В Петербург — вот где настоящая школа! Но город был недоступен. Государь установил черту оседлости для евреев, и ее не нарушишь. Помог отец, тогда еще живой. Через знакомого купца он достал временное разрешение на пребывание сына в Северной столице.
А рисовать так хотелось! В Петербург — вот где настоящая школа! Но город был недоступен. Государь установил черту оседлости для евреев, и ее не нарушишь. Помог отец, тогда еще живой. Через знакомого купца он достал временное разрешение на пребывание сына в Северной столице.
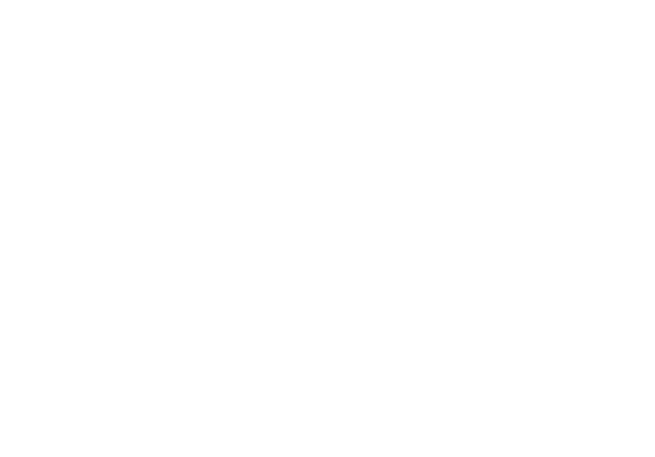
Семья М.З. Шагала. На фото Марк стоит второй справа. Витебск. 1900-е гг.
Как в таком большом городе не растеряться забитому провинциалу, да еще с худым кошельком? После долгих поисков работы и угла для ночлежки Шагал устроился в фотоателье ретушером. Потом нашел маляра, под руководством которого расписывал вывески, что дало возможность продлить на месяц отсрочку полицейского паспортконтроля.
Он попытался поступить в Училище технического рисования — не приняли за небрежную линию. Для покорения Академии художеств не хватало основного документа — аттестата об окончании гимназии. Одаренного ученика спас Николай Рерих — директор Рисовальной школы Императорского общества поощрения художников, принявший его к себе и выделивший ежемесячную десятирублевую стипендию. Позднее Шагал продолжил образование в мастерской С.М. Зайденберга и частной школе Звягинцевой, где наставниками были М.В. Добужинский и Л.С. Бакст.
Он попытался поступить в Училище технического рисования — не приняли за небрежную линию. Для покорения Академии художеств не хватало основного документа — аттестата об окончании гимназии. Одаренного ученика спас Николай Рерих — директор Рисовальной школы Императорского общества поощрения художников, принявший его к себе и выделивший ежемесячную десятирублевую стипендию. Позднее Шагал продолжил образование в мастерской С.М. Зайденберга и частной школе Звягинцевой, где наставниками были М.В. Добужинский и Л.С. Бакст.
Через два года юрист М.М. Винавер, известный в России общественный деятель, субсидировал поездку Марка в Париж с целью его профессионального роста — ведь уже тогда Шагал завораживал оригинальностью своего изобразительного мышления. Франция встретила приезжего настолько сурово, что тот решил вернуться обратно. Но случайно он зашел в «Ля Рюш» («Улей»), где творили Амедео Модильяни, Фернан Леже, выходцы из России А.П. Архипенко, Д.П. Штеренберг, И.А. Цадкин — «огромное коллективное гнездо художников». Так сказал заглянувший сюда корреспондент газеты «Киевская мысль» А.В. Луначарский — будущий нарком просвещения Советской России. А когда зашел в «берложку» к Шагалу, то, засмеявшись, обронил, что перед ним «“маленький Гофман околовитебских трущоб”, красочно пытающийся выразить свою незаурядную душу».
Лувр, Салон независимых, музеи, галереи города дали жаждущему познаний витебчанину больше, чем лучшая художественная академия. Но как бы ни были прекрасны творения мастеров, мир надо видеть своими глазами. Марк трудился самозабвенно. Средств на материалы не хватало, и он использовал для работы любую тряпку, попадавшуюся под руку, — наволочку, полотенце, простыню. На порванную в лоскуты рубаху прекрасно ложилась очередная композиция. Но если задуманное не получалось, то моментально все спускалось в мусорный бачок или выбрасывалось в окно. Где те счастливцы, которые, проходя по улице, подобрали эти «неудовлетворенности»?
Работы Шагала погибали и менее экзотично. Многие годы он безуспешно пытался получить обратно свои произведения после персональной выставки, прошедшей в берлинской галерее Der Sturm. После восьмилетней юридической тяжбы из 40 полотен и 160 произведений графики к нему вернулся лишь десяток работ. Почти все распродал галерейщик. Часть холстов послужила хозяйке, у которой он снимал квартиру, прикрытием от дыр в прохудившейся крыше.
В 1912 году Шагал возвратился на родину и принял участие в выставках в Петербурге и Москве. Витебск после заграничных впечатлений виделся Марку более обостренно и восторженно, что отразилось в серии бытовых набросков и этюдов. Здесь он женился на Берте Розенфельд, ставшей для него воплощением вечной женственности. О встрече с ней он написал в одном из своих ранних стихотворений:
Благодарю, Господь высот,
Тебя за день, за месяц тот.
Лувр, Салон независимых, музеи, галереи города дали жаждущему познаний витебчанину больше, чем лучшая художественная академия. Но как бы ни были прекрасны творения мастеров, мир надо видеть своими глазами. Марк трудился самозабвенно. Средств на материалы не хватало, и он использовал для работы любую тряпку, попадавшуюся под руку, — наволочку, полотенце, простыню. На порванную в лоскуты рубаху прекрасно ложилась очередная композиция. Но если задуманное не получалось, то моментально все спускалось в мусорный бачок или выбрасывалось в окно. Где те счастливцы, которые, проходя по улице, подобрали эти «неудовлетворенности»?
Работы Шагала погибали и менее экзотично. Многие годы он безуспешно пытался получить обратно свои произведения после персональной выставки, прошедшей в берлинской галерее Der Sturm. После восьмилетней юридической тяжбы из 40 полотен и 160 произведений графики к нему вернулся лишь десяток работ. Почти все распродал галерейщик. Часть холстов послужила хозяйке, у которой он снимал квартиру, прикрытием от дыр в прохудившейся крыше.
В 1912 году Шагал возвратился на родину и принял участие в выставках в Петербурге и Москве. Витебск после заграничных впечатлений виделся Марку более обостренно и восторженно, что отразилось в серии бытовых набросков и этюдов. Здесь он женился на Берте Розенфельд, ставшей для него воплощением вечной женственности. О встрече с ней он написал в одном из своих ранних стихотворений:
Благодарю, Господь высот,
Тебя за день, за месяц тот.
Но вскоре на Европу легла тень Первой мировой войны, а в России в 1917 году раздался залп «Авроры» — провозвестницы новой эпохи в истерзанной противоречиями державе.
Луначарский предложил Шагалу «возглавить усилия местных художников в революционном направлении», наделив его мандатом «уполномоченного по делам искусства Витебска и Витебской губернии». Вдохновленный победой Октября, победой «национального равенства всех народов и всеобщего повышения культуры простого человека», Марк пишет такие строки:
Вылазьте из глубоких ям,
Дядья и тетки,
Ты, кузина,
Ты, старый дед, — отныне вам
Дается званье гражданина.
Трудно представить Шагала комиссаром по делам искусств, у которого на боку болтался недюжинных размеров маузер, а в руках — ведра с красками. Как настоящий офицер в атаке, он залихватски бросался первым на «штурм» заборов, чтобы в считаные мгновения вместе со своим художественным «войском» превратить мертвую плоскость в политический плакат, клокочущий лозунговостью и дикими цветосочетаниями, на котором положительный рабочий побеждал растленного буржуя.
Он открыл в городе художественное училище и музей. Привлек к преподавательству людей одержимых — Ю.М. Пэна, А.Г. Ромма, И.А. Пуни, М.В. Добужинского, К.С. Малевича. Последний комиссара нового искусства не воспринял и приклеил ему обидный ярлык… «неореалиста». Истинное творчество в столь пафосное время должно было быть «беспредметным», что он и доказал своим «Черным квадратом». Казимир Малевич, низвергнув «ярого реалиста», занял его важную государственную должность.
Луначарский предложил Шагалу «возглавить усилия местных художников в революционном направлении», наделив его мандатом «уполномоченного по делам искусства Витебска и Витебской губернии». Вдохновленный победой Октября, победой «национального равенства всех народов и всеобщего повышения культуры простого человека», Марк пишет такие строки:
Вылазьте из глубоких ям,
Дядья и тетки,
Ты, кузина,
Ты, старый дед, — отныне вам
Дается званье гражданина.
Трудно представить Шагала комиссаром по делам искусств, у которого на боку болтался недюжинных размеров маузер, а в руках — ведра с красками. Как настоящий офицер в атаке, он залихватски бросался первым на «штурм» заборов, чтобы в считаные мгновения вместе со своим художественным «войском» превратить мертвую плоскость в политический плакат, клокочущий лозунговостью и дикими цветосочетаниями, на котором положительный рабочий побеждал растленного буржуя.
Он открыл в городе художественное училище и музей. Привлек к преподавательству людей одержимых — Ю.М. Пэна, А.Г. Ромма, И.А. Пуни, М.В. Добужинского, К.С. Малевича. Последний комиссара нового искусства не воспринял и приклеил ему обидный ярлык… «неореалиста». Истинное творчество в столь пафосное время должно было быть «беспредметным», что он и доказал своим «Черным квадратом». Казимир Малевич, низвергнув «ярого реалиста», занял его важную государственную должность.
«Когда Шагалу исполнилось пятьдесят лет, он написал картину “Время не знает берегов”. Крылатая птица летит над Двиной, к ней подвешены большие стоячие часы, стоявшие когда-то в доме родителей художника или его невесты… У Шагала летают не только птицы, но и рыбы, летают над городом бородатые евреи, скрипачи устраиваются на крышах домов, влюбленные целуются где-то поближе к луне, чем к земле. Однако, хотя все у него летит, кружится, он не замечает хода годов. Я его встречал несколько раз в Париже… Мне он казался самым русским из всех художников, которых я тогда встречал в Париже… А Шагал — поэт или, если точнее определить, сказочник, Андерсен живописи… Шагал — большое явление в мировой живописи ХХ века».
И.Г. Эренбург. «О Марке Шагале» (1967 г.)
Шагал сложил свои революционно-творческие полномочия и отправился в Москву. Там он работал с Всеволодом Мейерхольдом. С обожанием слушал Сергея Есенина, дружил с Владимиром Маяковским, который одну из своих книг сопроводил автографом: «Дай бог, чтоб каждый шагал, как Шагал!»
С 1923 года Марк Шагал — в эмиграции. Он вновь оказался в «столице мира». Париж наконец признал его. Он иллюстрирует «Басни» Лафонтена, путешествует по солнечной гостеприимной стране. Поездка в Сирию и Палестину вдохновила художника на грандиозный замысел, практически до конца дней не отпускавший его, — книгу «Библейские сказания». Он исполнил ее во всех техниках изобразительного искусства — от гравюры и рисунка до шпалер и керамики. Его странствия по свету всегда были продиктованы только интересами творчества!
С 1923 года Марк Шагал — в эмиграции. Он вновь оказался в «столице мира». Париж наконец признал его. Он иллюстрирует «Басни» Лафонтена, путешествует по солнечной гостеприимной стране. Поездка в Сирию и Палестину вдохновила художника на грандиозный замысел, практически до конца дней не отпускавший его, — книгу «Библейские сказания». Он исполнил ее во всех техниках изобразительного искусства — от гравюры и рисунка до шпалер и керамики. Его странствия по свету всегда были продиктованы только интересами творчества!
Приближалось самое страшное испытание в истории человеческой цивилизации — Вторая мировая война. Чернорубашечники со свастикой на рукавах бросали в огонь книги Шекспира и Маркса. В костре были сожжены «Распятие» шагаловской кисти и другие его произведения, названные нацистами «дегенеративными»… «Не переждать ли весь этот ужас в тихой Франции?» — рассуждал неискушенный в политике художник. Но все оказалось намного серьезнее. Захвачен Париж. На оккупированных нацистами территориях строились концентрационные лагеря. И в мае 1941-го Шагал принял приглашение своих друзей, работников Музея современного искусства, выехать в США.
Америка приняла Шагала с распростертыми объятиями, создав все условия для творчества. Но разве могут эмигрировать мысли? Марк слышит крики гибнущих в печах Аушвица, Бухенвальда, Равенсбрюка, Дахау и Треблинки. Каким количеством жертв, исчисляемых в миллионах, одна нация хочет доказать свое арийское превосходство над другими?! Ни на мгновение Марк Шагал не забывал о своей настоящей Родине. «Деревня и война» — его главный изобразительный сериал тех тревожных лет.
В Америке после непродолжительной болезни скоропостижно скончалась жена художника. Через несколько лет он вновь женился —на Валентине Бродской, дочери питерского чаепромышленника. Но первая любовь так и не оставила его.
Америка приняла Шагала с распростертыми объятиями, создав все условия для творчества. Но разве могут эмигрировать мысли? Марк слышит крики гибнущих в печах Аушвица, Бухенвальда, Равенсбрюка, Дахау и Треблинки. Каким количеством жертв, исчисляемых в миллионах, одна нация хочет доказать свое арийское превосходство над другими?! Ни на мгновение Марк Шагал не забывал о своей настоящей Родине. «Деревня и война» — его главный изобразительный сериал тех тревожных лет.
В Америке после непродолжительной болезни скоропостижно скончалась жена художника. Через несколько лет он вновь женился —на Валентине Бродской, дочери питерского чаепромышленника. Но первая любовь так и не оставила его.
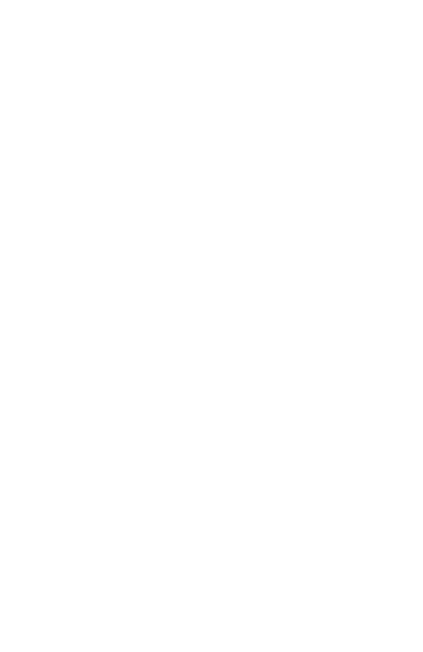
М.З. Шагал с дочерью Идой. 1944 г.
Когда отгремела война, Шагал возвратился во Францию и поселился в окрестностях Ниццы, в небольшом средиземноморском городке Сен-Поль-де-Ванс. Марк обожал Лазурный Берег, где и прошел заключительный период его необыкновенно насыщенной творчеством жизни.
В это время Шагал увлекся монументальными видами искусства, особенно мозаикой и витражами. Для соборов Реймса, Меца, Цюриха, деревушки Кент (близ Лондона) и для здания ООН (вместе с помощником) он исполнил около 1200 кв. метров витражей. В 76-летнем возрасте художник получил от президента Шарля де Голля и министра культура А. Мальро предложение расписать потолок парижской оперы, плафон в Гранд-опера, и в течение года он выполнял этот физически далеко не простой заказ. Еще через два года — новый шедевр росписи: панно в нью-йоркской Метрополитен-опере.
И вот долгожданная встреча с Россией. В июне 1973 года он приехал в Советский Союз. Посетил Москву и Ленинград. Но, увы, в Витебске побывать не смог — не пустили! «О прошлом можно только плакать, — в сердцах обронил он. — Ни царской России, ни России советской я оказался не нужным. Я им здесь непонятен. Я им — чужой… Может быть, и Европа полюбит меня, а потом уже и она — моя Россия».
В это время Шагал увлекся монументальными видами искусства, особенно мозаикой и витражами. Для соборов Реймса, Меца, Цюриха, деревушки Кент (близ Лондона) и для здания ООН (вместе с помощником) он исполнил около 1200 кв. метров витражей. В 76-летнем возрасте художник получил от президента Шарля де Голля и министра культура А. Мальро предложение расписать потолок парижской оперы, плафон в Гранд-опера, и в течение года он выполнял этот физически далеко не простой заказ. Еще через два года — новый шедевр росписи: панно в нью-йоркской Метрополитен-опере.
И вот долгожданная встреча с Россией. В июне 1973 года он приехал в Советский Союз. Посетил Москву и Ленинград. Но, увы, в Витебске побывать не смог — не пустили! «О прошлом можно только плакать, — в сердцах обронил он. — Ни царской России, ни России советской я оказался не нужным. Я им здесь непонятен. Я им — чужой… Может быть, и Европа полюбит меня, а потом уже и она — моя Россия».
И все же художник был искренне поражен и рад, когда на выставке с символически точной афишей «Здравствуй, Родина!» (по названию одного из его полотен) в двух наших крупнейших городах его встретили благодарные зрители — он буквально утопал в море цветов и улыбок признания истинных ценителей его феерически разнообразного творчества.
Шагал всегда причислял себя к русским художникам: к русской школе иконописи, народному лубку, взрывным творениям М.А. Врубеля, тишине пейзажных мотивов И.И. Левитана, живописи «крайне левых» — М.Ф.Ларионова, Н.С. Гончаровой, П.Н. Филонова. «Творчество — это вечная революция», — повторял он свою главную позицию о месте искусства в жизни общества.
Ему часто задавали вопрос: почему люди на его картинах летают в небе? Играют на скрипке, любят, пасут скот — и все это в облаках, поближе к Богу? Шагал отшучивался воспоминанием милой сценки из своего далекого детства, когда его дед в ясный погожий день взбирался на крышу избы, усаживался поудобнее на трубе и принимался аппетитно уплетать сочную морковь, запивая компотом из сухофруктов. Ему никто не мешал. Он чувствовал себя свободным, парящим над миром. Так зарождалась «полетность» персонажей Шагала. Они взмыли по-шагаловски в небо… Задолго до космонавтов. Придуманная им жизнь реальна и очень правдива. Ему веришь! Никогда ни в одной работе он не обманывал прежде всего себя, не изменял своим принципам творчества.
Шагал всегда причислял себя к русским художникам: к русской школе иконописи, народному лубку, взрывным творениям М.А. Врубеля, тишине пейзажных мотивов И.И. Левитана, живописи «крайне левых» — М.Ф.Ларионова, Н.С. Гончаровой, П.Н. Филонова. «Творчество — это вечная революция», — повторял он свою главную позицию о месте искусства в жизни общества.
Ему часто задавали вопрос: почему люди на его картинах летают в небе? Играют на скрипке, любят, пасут скот — и все это в облаках, поближе к Богу? Шагал отшучивался воспоминанием милой сценки из своего далекого детства, когда его дед в ясный погожий день взбирался на крышу избы, усаживался поудобнее на трубе и принимался аппетитно уплетать сочную морковь, запивая компотом из сухофруктов. Ему никто не мешал. Он чувствовал себя свободным, парящим над миром. Так зарождалась «полетность» персонажей Шагала. Они взмыли по-шагаловски в небо… Задолго до космонавтов. Придуманная им жизнь реальна и очень правдива. Ему веришь! Никогда ни в одной работе он не обманывал прежде всего себя, не изменял своим принципам творчества.
Шагал попрощался с нами 28 марта 1985 года, за два года до своего 100-летия. Похоронен на кладбище в Сен-Поль-де-Ванс.
Его автобиография «Моя жизнь», вышедшая в 1931 году, стала доступна нам только в 1994-м. Но сам Шагал, коленопреклоненный перед своей истинной отчизной, так и не дождался самого важного для себя события — запоздалого признания на родной земле.
Попав под литературное обаяние его автобиографии, трудно удержаться от бесконечного ее цитирования — настолько емким, образным, «цветоносным» языком она написана. Написана человеком многих дарований — мемуариста, поэта, живописца, графика, скульптора, монументалиста, сценографа, керамиста…
Имя этого «гражданина мира», произведениями которого гордятся лучшие музейные собрания планеты, звучит торжественно и просто — Марк Шагал.
Его автобиография «Моя жизнь», вышедшая в 1931 году, стала доступна нам только в 1994-м. Но сам Шагал, коленопреклоненный перед своей истинной отчизной, так и не дождался самого важного для себя события — запоздалого признания на родной земле.
Попав под литературное обаяние его автобиографии, трудно удержаться от бесконечного ее цитирования — настолько емким, образным, «цветоносным» языком она написана. Написана человеком многих дарований — мемуариста, поэта, живописца, графика, скульптора, монументалиста, сценографа, керамиста…
Имя этого «гражданина мира», произведениями которого гордятся лучшие музейные собрания планеты, звучит торжественно и просто — Марк Шагал.
Леонид Козлов
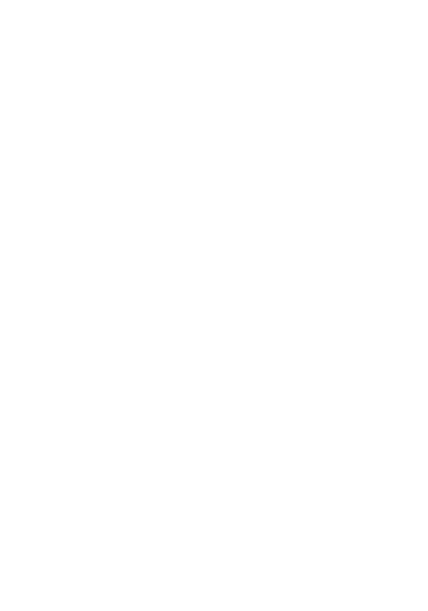
Париж. Ника Самофракийская — летящая скульптура Лувра
В 1977–1978 годах в Лувре проходила выставка работ Марка Шагала, приуроченная к его 90-летию. Организаторы нарушили существовавшие правила, выставив в Лувре работы еще живущего автора