Король поэтов в стране грез
Игорь Северянин
(1887–1941)
(1887–1941)
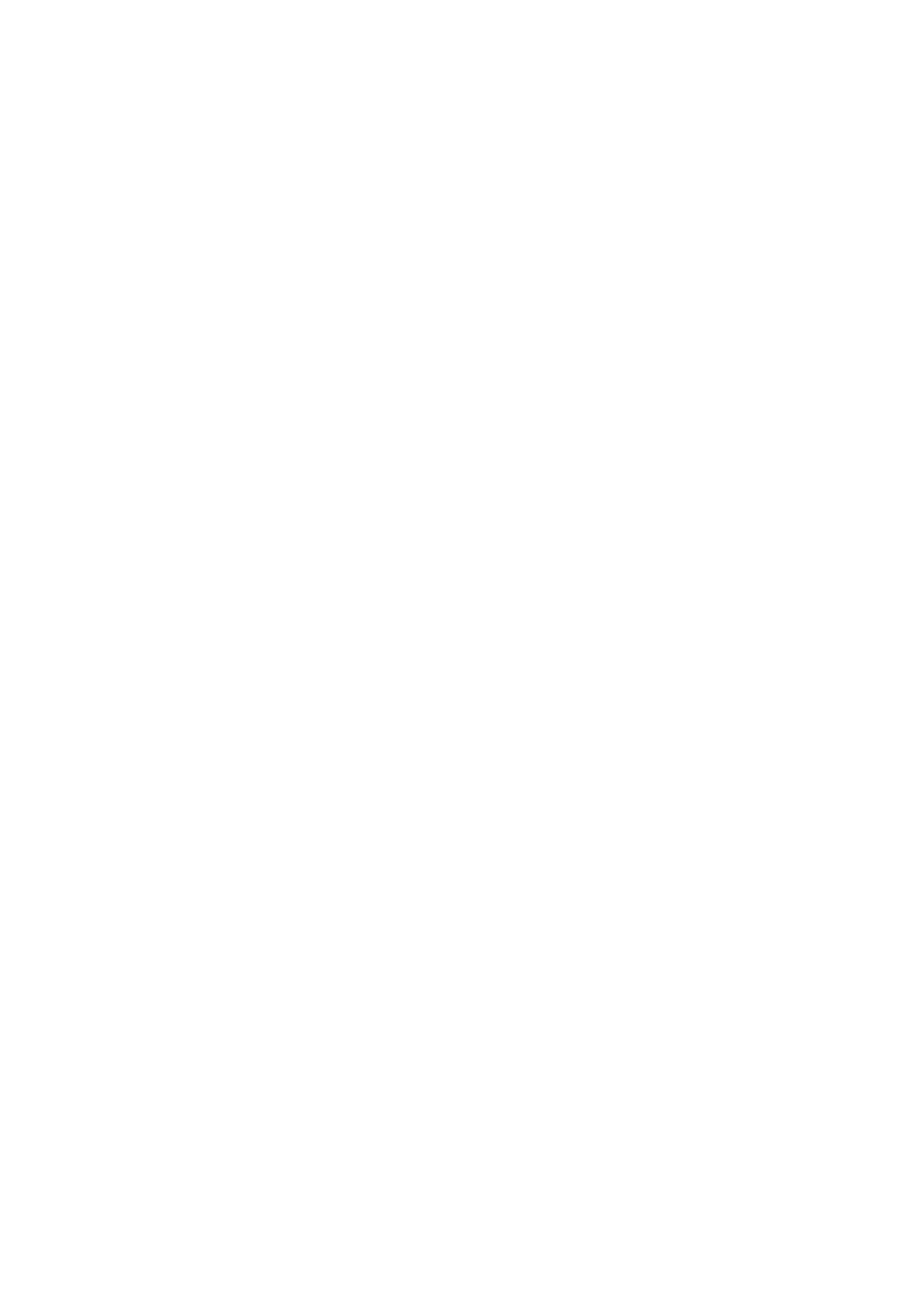
«Финляндский ветер с моря дует...»
Игорь Северянин выступал в концертных залах разных европейских стран. В 1923 году в рамках своего турне он побывал в Финляндии
Игорь Северянин выступал в концертных залах разных европейских стран. В 1923 году в рамках своего турне он побывал в Финляндии
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
4 (16) мая 1887 г. — родился в Санкт-Петербурге
1911 г. — рецензия В. Я. Брюсова в «Русской мысли» на «Электрические стихи»; выход сборника «Пролог. Эго-футуризм»
1912 г. — выход сборника «Эпилог. Эго-футуризм»
1913 г. — выход первого крупного сборника «Громокипящий кубок»
1918 г. — переезд в Эстонию
1922–1925 гг. — выход автобиографических романов в стихах «Падучая стремнина» (1922), «Роса оранжевого часа» (1925), «Колокола собора чувств» (1925)
1940 г. — выход интервью «Игорь Северянин беседует с Игорем Лотаревым о своем 35-летнем юбилее»
20 декабря 1941 г. — скончался в Таллине, похоронен на Александро-Невском кладбище
4 (16) мая 1887 г. — родился в Санкт-Петербурге
1911 г. — рецензия В. Я. Брюсова в «Русской мысли» на «Электрические стихи»; выход сборника «Пролог. Эго-футуризм»
1912 г. — выход сборника «Эпилог. Эго-футуризм»
1913 г. — выход первого крупного сборника «Громокипящий кубок»
1918 г. — переезд в Эстонию
1922–1925 гг. — выход автобиографических романов в стихах «Падучая стремнина» (1922), «Роса оранжевого часа» (1925), «Колокола собора чувств» (1925)
1940 г. — выход интервью «Игорь Северянин беседует с Игорем Лотаревым о своем 35-летнем юбилее»
20 декабря 1941 г. — скончался в Таллине, похоронен на Александро-Невском кладбище
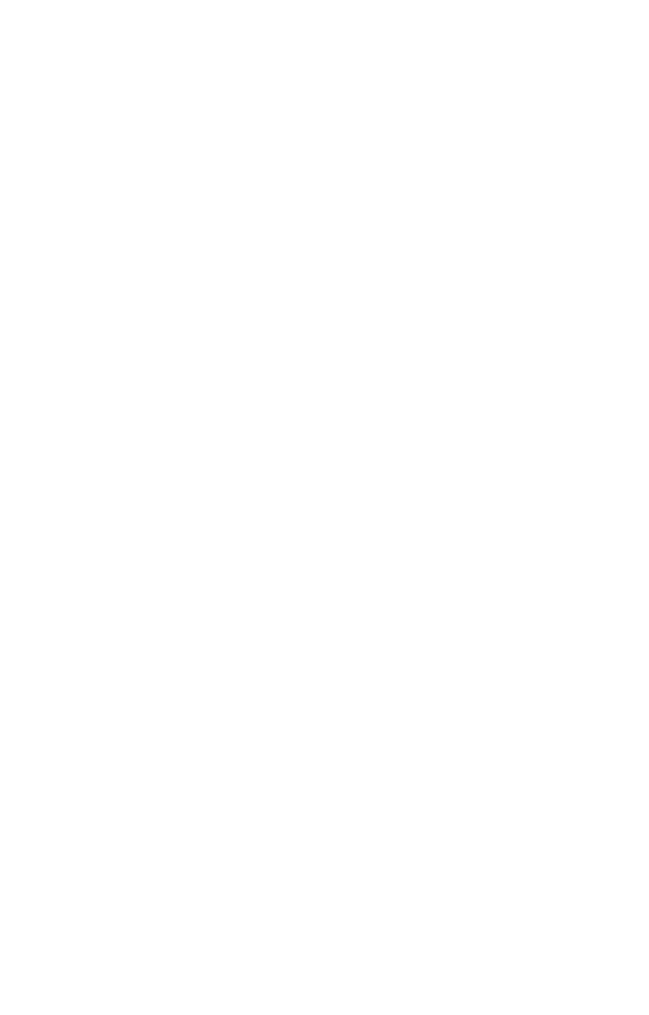
Игорь Северянин. Таллин. 1920 г.
Первого февраля 1906 года началась одна из самых удивительных поэтических карьер в России: в солдатском журнале «Досуг и дело» (1905, № 2) вышла первая публикация Игоря Лотарева — стихотворение «Гибель “Рюрика”».
Уже через год он избрал своих профессиональных менторов: Константина Фофанова и Мирру Лохвицкую. Мирра дала имя выдуманной стране грез Миррэлии, где люди всегда счастливы, где нет ни бедных, ни больных. День встречи с Константином Фофановым поэт отмечал затем всю жизнь — 20 ноября 1907 года. А еще Игорю повезло с родным дядей М.П. Лотаревым: на его средства он издал 35 брошюрок со стихами, которые — увы, безответно — рассылал по редакциям и издательствам.
Серьезная лирика Северянина оказывается тесно связанной с творчеством Мирры Лохвицкой. Не только образы тянутся друг к другу, но и зачастую возникают общий ритмический рисунок, схожие ассоциации, созвучия и переклички. И все же не стоит переоценивать эту похожесть. Игорь Северянин — а поначалу его псевдоним писался именно так, через дефис, — обладал оригинальнейшим афористическим чутьем, позволявшим создавать замечательные строчки:
Элегантная коляска,
в электрическом биеньи
Эластично шелестела
по шоссейному песку...
Уже через год он избрал своих профессиональных менторов: Константина Фофанова и Мирру Лохвицкую. Мирра дала имя выдуманной стране грез Миррэлии, где люди всегда счастливы, где нет ни бедных, ни больных. День встречи с Константином Фофановым поэт отмечал затем всю жизнь — 20 ноября 1907 года. А еще Игорю повезло с родным дядей М.П. Лотаревым: на его средства он издал 35 брошюрок со стихами, которые — увы, безответно — рассылал по редакциям и издательствам.
Серьезная лирика Северянина оказывается тесно связанной с творчеством Мирры Лохвицкой. Не только образы тянутся друг к другу, но и зачастую возникают общий ритмический рисунок, схожие ассоциации, созвучия и переклички. И все же не стоит переоценивать эту похожесть. Игорь Северянин — а поначалу его псевдоним писался именно так, через дефис, — обладал оригинальнейшим афористическим чутьем, позволявшим создавать замечательные строчки:
Элегантная коляска,
в электрическом биеньи
Эластично шелестела
по шоссейному песку...
«Мы с Вами, Игорь, очень разные сейчас. Подход к истории — у нас — иной, противоположный, в мировоззрении нет созвучия у нас! Но в восприятии жизни — есть много общего… Я люблю Ваше творчество, но мне бы ужасно хотелось показать Вам еще одну грань жизни — свет и тени неизмеримых высот, того бега в будущее, куда Революция — эта великая мятежница — завлекла Человечество».
А.М. Коллонтай. Из письма Игорю Северянину
21 октября 1922 г.
Жизненный путь Лотарева прекрасно документирован, и есть на этом пути важная веха: 12 января 1910 года. В тот день, беседуя с И.Ф. Наживиным, журналистом, а затем и писателем, Лев Толстой возмутился современной ему поэзией, приведя в качестве отрицательного примера строки Игоря-Северянина, открывавшие его «Хабанеру II»:
Вонзите штопор в упругости
пробки,
И взоры женщин не будут
робки…
Это вызвало фурор! Об Игоре-Северянине заговорили все! Ладно, все дружно принялись его ругать, так ведь он оказался притчей во языцех! О нем узнали, его запомнили и с тех пор начали следить за его «поэзами». И вот вполне дружелюбно отзывается Брюсов, исполнен доброты и приятия отзыв Сологуба… Игорь-Северянин поймал свой шанс, не дал ему раствориться насыщенной поэтической атмосфере начала ХХ века. Во времена авангарда в искусстве следовало вести себя авангардистски: само поведение поэта являлось художественным высказыванием.
Вонзите штопор в упругости
пробки,
И взоры женщин не будут
робки…
Это вызвало фурор! Об Игоре-Северянине заговорили все! Ладно, все дружно принялись его ругать, так ведь он оказался притчей во языцех! О нем узнали, его запомнили и с тех пор начали следить за его «поэзами». И вот вполне дружелюбно отзывается Брюсов, исполнен доброты и приятия отзыв Сологуба… Игорь-Северянин поймал свой шанс, не дал ему раствориться насыщенной поэтической атмосфере начала ХХ века. Во времена авангарда в искусстве следовало вести себя авангардистски: само поведение поэта являлось художественным высказыванием.
«Вы выросли, Вы стали простым, Вы стали поэтом больших линий и больших вещей, Вы открыли то, что отродясь Вам было приоткрыто — природу, Вы, наконец, раз-нарядили ее…»
М.И. Цветаева. Из письма Игорю Северянину
28 февраля 1931 г.
Северянин продумал свою манеру исполнения «поэз». Его совершенно не отвлекал зал. Он не собирался взаимодействовать с аудиторией. Ни словом, ни жестом он не выдавал, что все-таки видел и зал, и поклонниц, и влюбленных в него почитателей. Северянин не смотрел на них. Он был просто медиумом между этим миром, миром братоубийственных войн и безумных амбиций, и миром высокой поэзии, страной Мирэллией…
Позовите меня,
Я прочту вам себя,
Я прочту вам себя,
Как никто не прочтет.
Смысл стихов оставался непроясненным. Голосовые модуляции лишь запутывали слушателя, вовсе не раскрывая перед ним красоту афористичных строк.
Атмосфера оказывалась дурманящей, неземной:
Шуршат истомно муары влаги,
Вино сверкает, как стих поэм…
И закружились от чар малага
Головки женщин и кризантэм…
Смысл открывался только подлинным Поэтам, оставаясь недоступным «жалким имитаторам». Сразу после чтения Северянин уходил, никогда не оставаясь на поклоны. Это было поведение подлинного поэта-авангардиста.
Я прочту вам себя,
Я прочту вам себя,
Как никто не прочтет.
Смысл стихов оставался непроясненным. Голосовые модуляции лишь запутывали слушателя, вовсе не раскрывая перед ним красоту афористичных строк.
Атмосфера оказывалась дурманящей, неземной:
Шуршат истомно муары влаги,
Вино сверкает, как стих поэм…
И закружились от чар малага
Головки женщин и кризантэм…
Смысл открывался только подлинным Поэтам, оставаясь недоступным «жалким имитаторам». Сразу после чтения Северянин уходил, никогда не оставаясь на поклоны. Это было поведение подлинного поэта-авангардиста.
«[Имя Северянина] знали не только все гимназисты, студенты, курсистки, молодые офицеры, но даже приказчики, фельдшерицы, коммивояжеры, юнкера, — не имевшие в то же время понятия, что существует такой русский писатель: Иван Бунин».
И.А. Бунин. Собр. соч. в 9 т. Т. 9 (1967 г.)
Кто я? Я — Игорь-Северянин,
Чье имя смело, как вино.
Оставалось только создать и возглавить новое направление в поэзии.
Совместно с Константином Олимповым, сыном своего друга К. Фофанова, Северянин создал кружок Ego, который стал платформой для «эго-футуризма», ныне входящего во все учебники по истории литературы ХХ века. Принципы эго-футуризма Игорь Северянин (кстати, оба дефиса из предшествующих словосочетаний навсегда исчезли!) сформулировал так:
Душа — единственная истина.
Самоутверждение личности.
Поиски нового без отверганья
старого.
Осмысленные неологизмы.
Смелые образы, эпитеты,
ассонансы и диссонансы.
Борьба со «стереотипами»
и «заставками».
Разнообразие метров.
Чье имя смело, как вино.
Оставалось только создать и возглавить новое направление в поэзии.
Совместно с Константином Олимповым, сыном своего друга К. Фофанова, Северянин создал кружок Ego, который стал платформой для «эго-футуризма», ныне входящего во все учебники по истории литературы ХХ века. Принципы эго-футуризма Игорь Северянин (кстати, оба дефиса из предшествующих словосочетаний навсегда исчезли!) сформулировал так:
Душа — единственная истина.
Самоутверждение личности.
Поиски нового без отверганья
старого.
Осмысленные неологизмы.
Смелые образы, эпитеты,
ассонансы и диссонансы.
Борьба со «стереотипами»
и «заставками».
Разнообразие метров.
Как видим, здесь не только поэтические принципы, но и философия жизни и творчества.
Впрочем, уже в 1912 году Северянин написал «Эпилог. Эго-футуризм»:
Я выполнил свою задачу,
Литературу покорив.
В феврале 1918 года в московском Политехническом музее Игоря Северянина объявили «королем поэтов», а В.В. Маяковскому отвели только второе место. Что ж, самого Северянина это никак не удивило. Одним из его предков был сам Карамзин, «король историков». Возможно, этот выбор не удивил и Маяковского, который часто на своих поэтических вечерах с удовольствием декламировал «поэзы» Северянина. Впрочем, о самой процедуре избрания остались самые противоречивые воспоминания. Немедленно Северянин издал королевский рескрипт:
Отныне плащ мой
фиолетов,
Берета бархат в серебре:
Я выбран королем поэтов
На зависть нудной
мошкаре.
Впрочем, уже в 1912 году Северянин написал «Эпилог. Эго-футуризм»:
Я выполнил свою задачу,
Литературу покорив.
В феврале 1918 года в московском Политехническом музее Игоря Северянина объявили «королем поэтов», а В.В. Маяковскому отвели только второе место. Что ж, самого Северянина это никак не удивило. Одним из его предков был сам Карамзин, «король историков». Возможно, этот выбор не удивил и Маяковского, который часто на своих поэтических вечерах с удовольствием декламировал «поэзы» Северянина. Впрочем, о самой процедуре избрания остались самые противоречивые воспоминания. Немедленно Северянин издал королевский рескрипт:
Отныне плащ мой
фиолетов,
Берета бархат в серебре:
Я выбран королем поэтов
На зависть нудной
мошкаре.
«Стих его отличается сильной мускулатурой кузнечика».
О.Э. Мандельштам. Из рецензии на поэтической сборник Игоря Северянина «Громокипящий кубок» (1913 г.)
В одном из московских издательств во времена нэпа в день зарплаты все сотрудники мчались получить деньги до прихода Маяковского — он обычно забирал все! Его гонорары были рекордными. Трудно себе представить, чтобы Маяковский уступил хоть какому-то поэту. Однако такой поэт был: в эмигрантском издательстве «Накануне» Маяковский сам просил, чтобы сначала опубликовали книгу Игоря Северянина, а потом уж как-нибудь и его. Неопубликованных книг у Северянина оказалось четыре — и Маяковский не только терпеливо ждал, но был просто счастлив, что сумел помочь настоящему поэту.
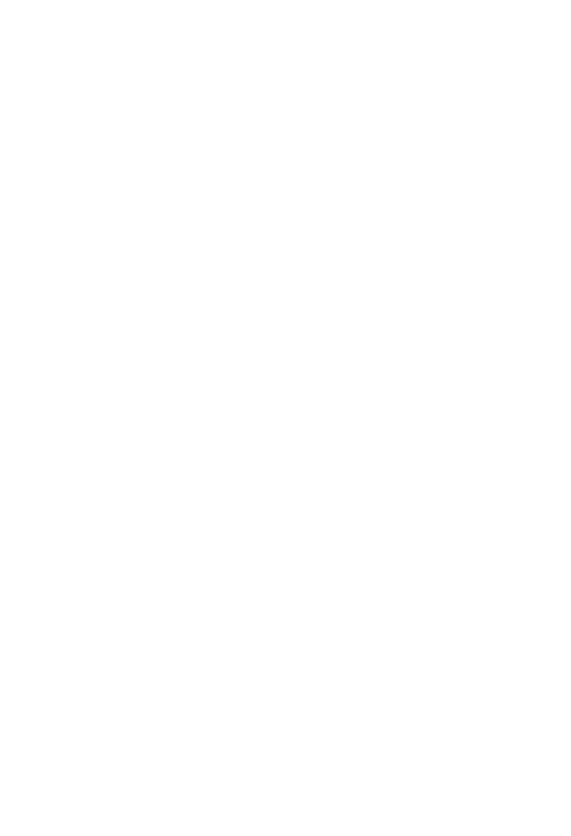
Игорь Северянин. 1915 г.
28 января 1918 года Северянин с гражданской женой Марией Васильевной Домбровской и матерью уехал, как он говорил, на дачу в Тойло (Эстония). Северянин любил туда ездить, приезжал не раз в «милую Эсти» начиная с 1912 года. После революции страна распалась, и в июне 1918 Северянин, сам того не ожидая, оказался эмигрантом. Эстония оказалась уютным и добрым домом, помогла поэту сохранить жизнь, достоинство, поэтический почерк, расширить свою творческую палитру.
Виды, запахи, пейзажи Эстонии у него встречаются чаще, чем у любого другого русского поэта. Любовь к эстонским лесам и озерам для него стала новым вдохновением. В 1921 году он получил эстонское гражданство и женился на Фелиссе Круут, дочери хозяина дома, в котором жил.
В эмиграции Северянин издавал сборники переводов из эстонских поэтов: Х. Виснапуу, А. Раннита, М. Ундер. Всего вышло пять таких сборников. Выход в 1928 году книги «Поэты Эстонии. Антология за 100 лет. 1803–1902 гг.» стал событием для культурной жизни Эстонии. В нее Северянин включил около 150 стихотворений эстонских поэтов. Вместе с женой они читали эстонские стихи по всей Европе, составив программы поэтических вечеров. Франция, Германия, Югославия, Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Польша, Чехословакия, Финляндия рукоплескали поэту и восхищались им. Поэтический псевдоним у Фелиссы был поистине северянинским: Ариадна Изумрудная. У поэтической четы в 1922 году родился сын Вакх. Менялась жизнь, менялся и сам Северянин. В 1922–1925 годах он написал три автобиографических романа в стихах: «Падучая стремнина» (1922), «Роса оранжевого часа» (1925), «Колокола собора чувств» (1925). Изменился его поэтический стиль, постепенно исчезли северянинские неологизмы.
Виды, запахи, пейзажи Эстонии у него встречаются чаще, чем у любого другого русского поэта. Любовь к эстонским лесам и озерам для него стала новым вдохновением. В 1921 году он получил эстонское гражданство и женился на Фелиссе Круут, дочери хозяина дома, в котором жил.
В эмиграции Северянин издавал сборники переводов из эстонских поэтов: Х. Виснапуу, А. Раннита, М. Ундер. Всего вышло пять таких сборников. Выход в 1928 году книги «Поэты Эстонии. Антология за 100 лет. 1803–1902 гг.» стал событием для культурной жизни Эстонии. В нее Северянин включил около 150 стихотворений эстонских поэтов. Вместе с женой они читали эстонские стихи по всей Европе, составив программы поэтических вечеров. Франция, Германия, Югославия, Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Польша, Чехословакия, Финляндия рукоплескали поэту и восхищались им. Поэтический псевдоним у Фелиссы был поистине северянинским: Ариадна Изумрудная. У поэтической четы в 1922 году родился сын Вакх. Менялась жизнь, менялся и сам Северянин. В 1922–1925 годах он написал три автобиографических романа в стихах: «Падучая стремнина» (1922), «Роса оранжевого часа» (1925), «Колокола собора чувств» (1925). Изменился его поэтический стиль, постепенно исчезли северянинские неологизмы.
В 1935 году вышла последняя книга Северянина «Рояль Леандра». Она состоит из очередных переводов эстонских поэтов. Безденежье, падение интереса к русской поэзии, агрессивность «века реализма» резко изменили жизнь поэта. Он ушел из семьи и переехал в Таллин к Вере Борисовне Коренди. Они скромно жили вдвоем на ее учительскую зарплату. Города Северянин не любил, но выбора уже не было. Наконец, за заслуги по пропаганде эстонской литературы правительство Эстонии выделило ему пожизненную пенсию… восемь долларов. Впрочем, посильную помощь ему оказывала жившая в Швеции поклонница Августа Баранова. Северянин с женой ходили по домам и отелям и предлагали купить вышедшие книги поэта с автографом. Денег не хватало даже на лекарства. Он больше не записывал стихов: издатели им не интересовались, придуманные стихотворения он быстро забывал. Казалось бы, вхождение Эстонии в состав СССР в 1940 году открыло перед поэтом новые возможности. Он всегда был вне политики, и у большевиков не было оснований наказывать его за те или иные антисоветские демарши — Северянин их попросту не совершал. Однако уже в 1941 году нацисты оккупировали Эстонию. Переезд вглубь России так и не состоялся. На могиле Игоря Северянина в Таллине осталась эпитафия, когда-то написанная им:
Как хороши, как свежи будут
розы,
Моей страной мне брошенные
в гроб!
Эстония стала родиной поздней лирики Игоря Северянина, написанной в традиционном ключе. Многие знатоки его поэзии именно позднюю лирику считают вершиной его творчества, хотя знаменитые «поэзы» начала века позволили ему гордо воскликнуть:
Я, гений Игорь-Северянин,
Своей победой упоен.
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!
От Баязета к Порт-Артуру
Черту упорную провел.
Я покорил Литературу!
Взорлил, гремящий, на престол!..
Как хороши, как свежи будут
розы,
Моей страной мне брошенные
в гроб!
Эстония стала родиной поздней лирики Игоря Северянина, написанной в традиционном ключе. Многие знатоки его поэзии именно позднюю лирику считают вершиной его творчества, хотя знаменитые «поэзы» начала века позволили ему гордо воскликнуть:
Я, гений Игорь-Северянин,
Своей победой упоен.
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!
От Баязета к Порт-Артуру
Черту упорную провел.
Я покорил Литературу!
Взорлил, гремящий, на престол!..
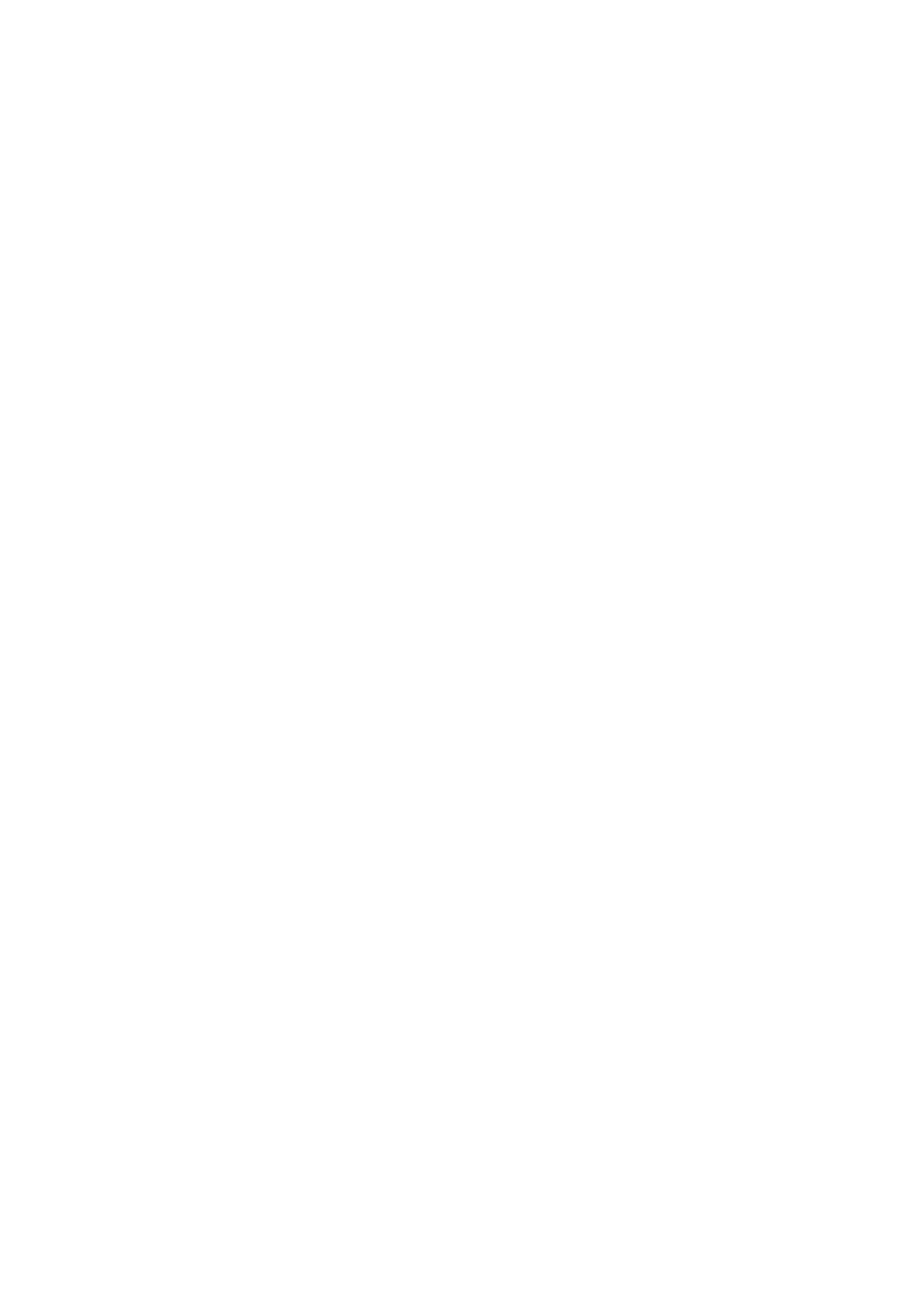
Хельсинки на колесах
Как на Родине, так и в эмиграции, Игорь Северянин много гастролировал. Концерты, которые он давал, «Король поэтов» называл «поэзоконцертами»