Человек, миф, искусство, эпоха
Мстислав Леопольдович Ростропович
(1927–2007)
Галина Павловна Вишневская
(1926–2012)
(1927–2007)
Галина Павловна Вишневская
(1926–2012)
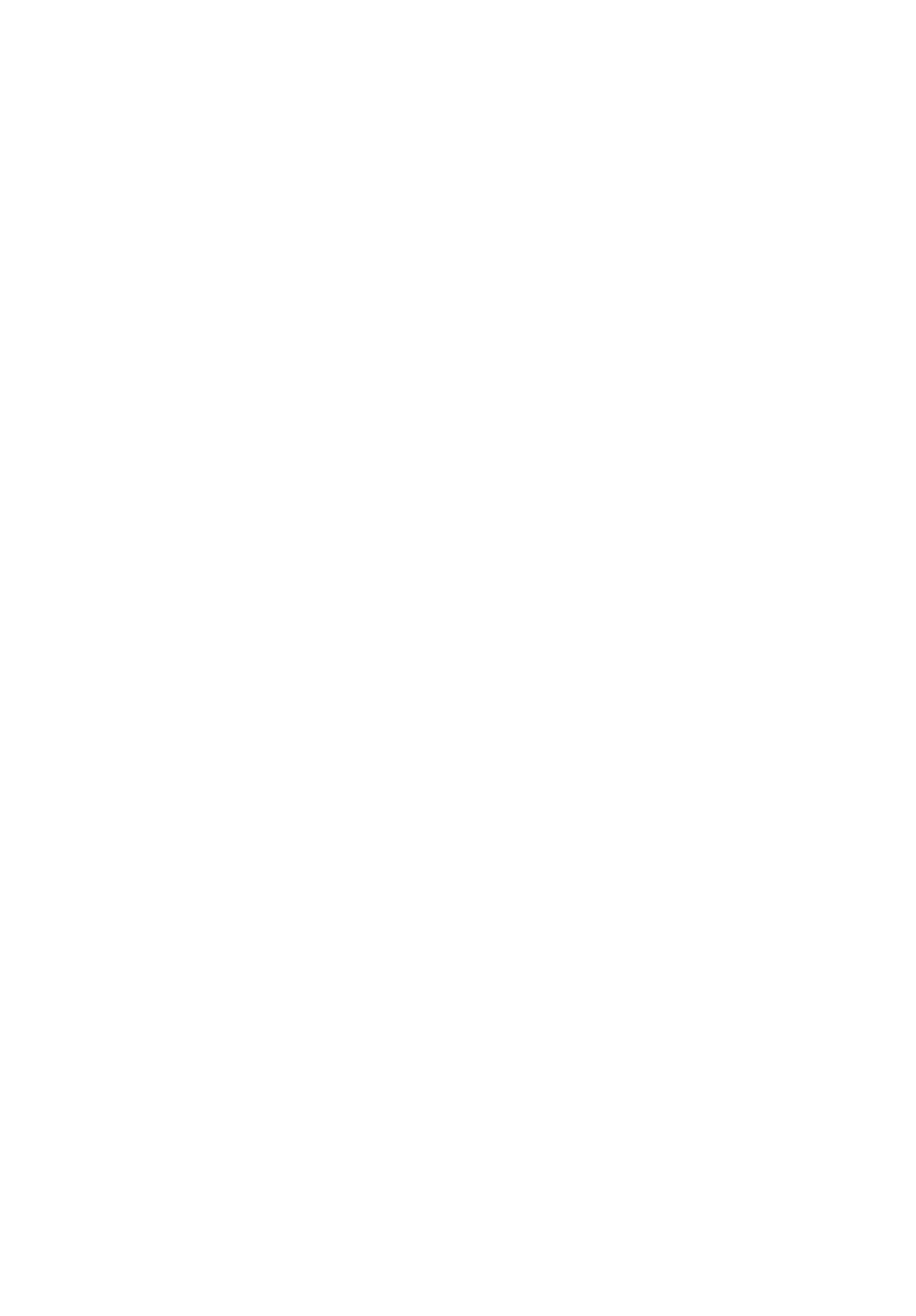
Концерт для Андрея
Прощание с Андреем Арсеньевичем Тарковским, собор Александра Невского в Париже. 5 января 1987 года
Прощание с Андреем Арсеньевичем Тарковским, собор Александра Невского в Париже. 5 января 1987 года
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
РОСТРОПОВИЧ МСТИСЛАВ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ
27 марта 1927 г. — родился в Баку.
1943–1946 гг. — студент,
1948–1974 гг. — преподаватель, доцент, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского
1964 г. — лауреат Ленинской премии
1966 г. — народный артист СССР
В 1977–1994 гг. — главный дирижер Национального симфонического оркестра в Вашингтоне
27 апреля 2007 г. — скончался в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище
ВИШНЕВСКАЯ ГАЛИНА ПАВЛОВНА
25 октября 1926 г. — родилась в Ленинграде
1952–1974 гг. — солистка Большого театра СССР
1966 г. — экстерном окончила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского
1982 г. — завершила певческую карьеру
2002 г. — основала Центр оперного пения
11 декабря 2012 г. — скончалась в Москве, похоронена на Новодевичьем кладбище
МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ И ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ
1955 г. — знакомство и брак
Июль 1974 г. — вынужденная эмиграция из СССР
16 марта 1978 г. — лишение гражданства СССР
Январь 1990 г. — восстановление гражданства СССР
РОСТРОПОВИЧ МСТИСЛАВ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ
27 марта 1927 г. — родился в Баку.
1943–1946 гг. — студент,
1948–1974 гг. — преподаватель, доцент, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского
1964 г. — лауреат Ленинской премии
1966 г. — народный артист СССР
В 1977–1994 гг. — главный дирижер Национального симфонического оркестра в Вашингтоне
27 апреля 2007 г. — скончался в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище
ВИШНЕВСКАЯ ГАЛИНА ПАВЛОВНА
25 октября 1926 г. — родилась в Ленинграде
1952–1974 гг. — солистка Большого театра СССР
1966 г. — экстерном окончила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского
1982 г. — завершила певческую карьеру
2002 г. — основала Центр оперного пения
11 декабря 2012 г. — скончалась в Москве, похоронена на Новодевичьем кладбище
МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ И ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ
1955 г. — знакомство и брак
Июль 1974 г. — вынужденная эмиграция из СССР
16 марта 1978 г. — лишение гражданства СССР
Январь 1990 г. — восстановление гражданства СССР
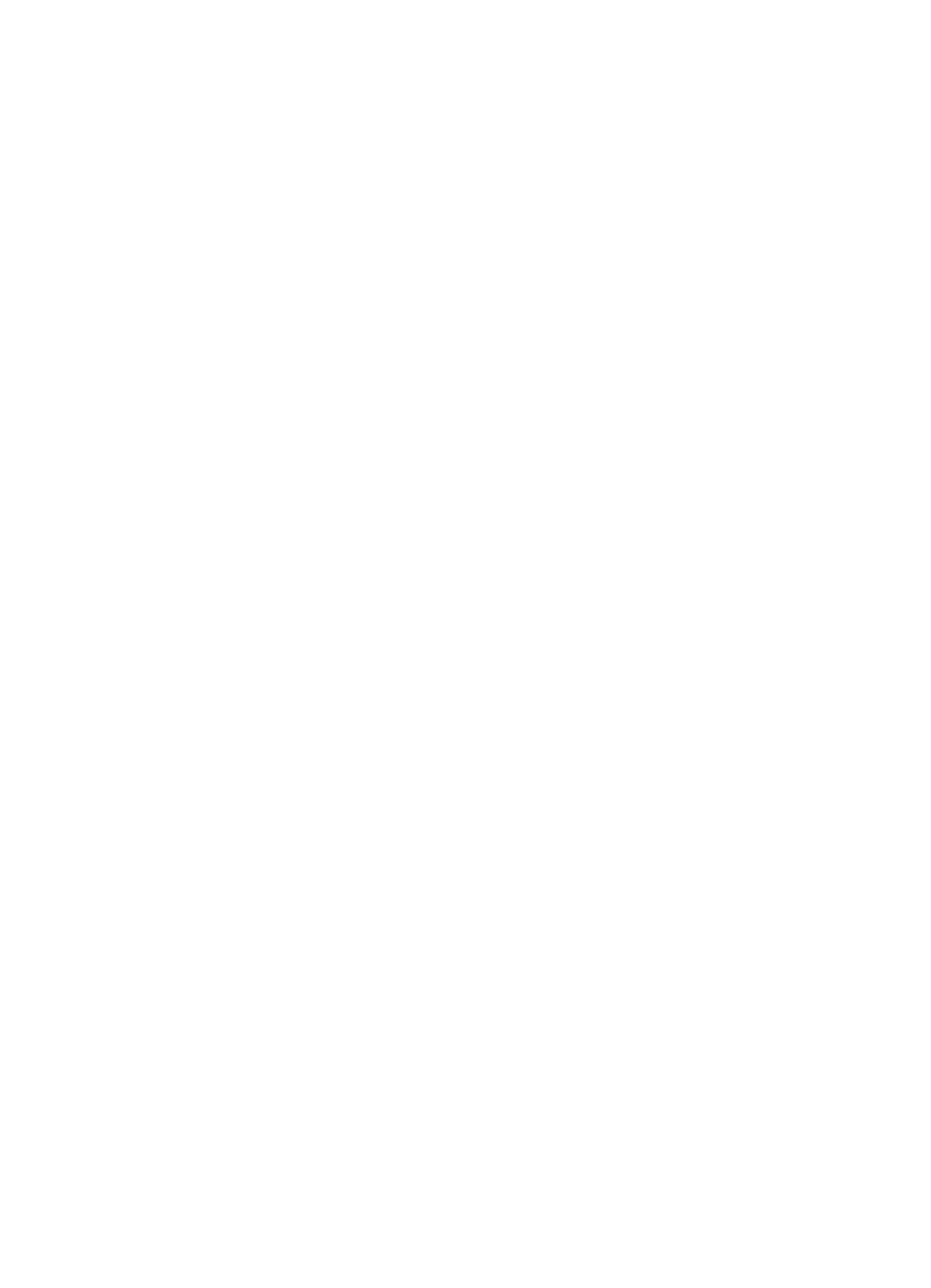
М.Л. Ростропович и Г.П. Вишневская. Москва. 1961 г.
История искусства, в том числе музыкального, знает немало звездных дуэтов, и у каждого — своя судьба. Но пара — «герой» этого очерка — во многом особенная. Мстислав Леопольдович Ростропович (1927–2007) и Галина Павловна Вишневская (1926–2012) стали не только и эпохой в искусстве — свидетелями, созидателями, символами и даже мифами эпохи. Бросив, в отличие от многих собратьев по профессии, прямой вызов государству, они победили, и величайшая ценность этой победы в том, что случилась она при жизни и пожать ее плоды смогли и сами герои, и мы, — их слушатели и зрители разных стран и континентов. Но именно масштаб этих фигур представляет главную трудность для биографа: шаг вправо, шаг влево — и ты уже рассказываешь о символах, а не о людях. Потому ваш автор считает себя свободным от «линейного» изложения биографий.
«Я потерял три дня моей жизни…» Фраза из интервью Мстислава Ростроповича — ответ на вопрос о скоротечности их романа. Часто говорят: не могли не встретиться. Конечно, могли! Но они были созданы друг для друга, в них было глубинное родство. Они детьми познали тяготы и лишения, голод, борьбу за жизнь. К Ростроповичу судьба была еще относительно благосклонна: уроженец Баку, затем житель Москвы, он провел самые тяжелые годы войны в Оренбурге, куда эвакуировались его отец (и первый учитель), виолончелист Леопольд Витольдович Ростропович, и мать, пианистка Софья Николаевна Федотова. Смерть отца в июле 1942 года сделала 15-летнего паренька главным кормильцем семьи. Позднее, уже в Москве, одна из первых студенток молодого преподавателя Московской консерватории Алла Васильева вспоминала: «В те годы он был постоянно голоден». Галина Вишневская (в девичестве Иванова) вообще росла классической безотцовщиной при живых родителях. Она пережила блокаду Ленинграда и буквально вырывала у смерти свой кусок хлеба. Потом были поденщина в Ленинградском областном театре оперетты (его директор Марк Рубин был вторым мужем Галины), бесконечный «чес» в попытке заработать лишнюю копеечку, смерть от туберкулеза сына, которому не исполнилось и трех месяцев и которому она ничем не могла помочь; все заработанные средства уходили на очень дорогой в те годы стрептомицин.
Тогда и проявилась главная общность Ростроповича и Вишневской: они умели мечтать. Оба они могли повторить слова героя одного из прекрасных советских фильмов: «Я выжил только потому, что знал: над блокадным небом есть другое — вечное». Только это были не абстрактные мечты чеховско-горьковской интеллигенции. Молодая певица использовала каждую возможность для самообразования (при этом ее формальное образование свелось к двум классам вечерней музыкальной школы). Она была вознаграждена встречей с певицей и подлинным педагогом-интеллектуалом Верой Гариной, которая и стала ее консерваторией. А молодой виолончелист в 1943 году поступил в главную консерваторию страны — Московскую — в класс своего дяди Семена Козолупова. При всей благодарности дяде («он прекрасно знал, как нужно учить играть на виолончели», — вспоминал Ростропович впоследствии в одной из многочисленных бесед со студенткой Элизабет Уилсон; о ней речь впереди; все неоговоренные цитаты — из ее книги), 17-летнему юноше недостаточно было технически совершенной игры на своем инструменте. «В классе Козолупова я не занимался музыкой». Ее поиски привели Ростроповича в класс композиции Виссариона Шебалина (выдаю щегося композитора, в те годы — директора Консерватории), в класс инструментовки Дмитрия Шостаковича. А к фортепиано в свое время его пристрастил отец, и все же можно сказать, что изумительный ансамблист Ростропович был в значительной степени пианистом-самоучкой.
В мемуарах Вишневская говорит о разности воспитания инструменталистов и певцов. Инструменталисты целенаправленно занимаются с детства, почти 20 лет готовятся к профессиональной работе. «Молодые певцы находятся на совершенно другом уровне культурного и музыкального развития, чем инструменталисты». К тому же и голос у многих по-настоящему формируется примерно к 20 годам. Если в отношении пианистов или скрипачей Вишневская права на 100 процентов (детей, игравших на этих инструментах, традиционно нацеливали на сольную карьеру, существовал огромный и разнообразный репертуар), то в отношении виолончелистов — не вполне. И многое в этом смысле изменил как раз Ростропович.
«Я потерял три дня моей жизни…» Фраза из интервью Мстислава Ростроповича — ответ на вопрос о скоротечности их романа. Часто говорят: не могли не встретиться. Конечно, могли! Но они были созданы друг для друга, в них было глубинное родство. Они детьми познали тяготы и лишения, голод, борьбу за жизнь. К Ростроповичу судьба была еще относительно благосклонна: уроженец Баку, затем житель Москвы, он провел самые тяжелые годы войны в Оренбурге, куда эвакуировались его отец (и первый учитель), виолончелист Леопольд Витольдович Ростропович, и мать, пианистка Софья Николаевна Федотова. Смерть отца в июле 1942 года сделала 15-летнего паренька главным кормильцем семьи. Позднее, уже в Москве, одна из первых студенток молодого преподавателя Московской консерватории Алла Васильева вспоминала: «В те годы он был постоянно голоден». Галина Вишневская (в девичестве Иванова) вообще росла классической безотцовщиной при живых родителях. Она пережила блокаду Ленинграда и буквально вырывала у смерти свой кусок хлеба. Потом были поденщина в Ленинградском областном театре оперетты (его директор Марк Рубин был вторым мужем Галины), бесконечный «чес» в попытке заработать лишнюю копеечку, смерть от туберкулеза сына, которому не исполнилось и трех месяцев и которому она ничем не могла помочь; все заработанные средства уходили на очень дорогой в те годы стрептомицин.
Тогда и проявилась главная общность Ростроповича и Вишневской: они умели мечтать. Оба они могли повторить слова героя одного из прекрасных советских фильмов: «Я выжил только потому, что знал: над блокадным небом есть другое — вечное». Только это были не абстрактные мечты чеховско-горьковской интеллигенции. Молодая певица использовала каждую возможность для самообразования (при этом ее формальное образование свелось к двум классам вечерней музыкальной школы). Она была вознаграждена встречей с певицей и подлинным педагогом-интеллектуалом Верой Гариной, которая и стала ее консерваторией. А молодой виолончелист в 1943 году поступил в главную консерваторию страны — Московскую — в класс своего дяди Семена Козолупова. При всей благодарности дяде («он прекрасно знал, как нужно учить играть на виолончели», — вспоминал Ростропович впоследствии в одной из многочисленных бесед со студенткой Элизабет Уилсон; о ней речь впереди; все неоговоренные цитаты — из ее книги), 17-летнему юноше недостаточно было технически совершенной игры на своем инструменте. «В классе Козолупова я не занимался музыкой». Ее поиски привели Ростроповича в класс композиции Виссариона Шебалина (выдаю щегося композитора, в те годы — директора Консерватории), в класс инструментовки Дмитрия Шостаковича. А к фортепиано в свое время его пристрастил отец, и все же можно сказать, что изумительный ансамблист Ростропович был в значительной степени пианистом-самоучкой.
В мемуарах Вишневская говорит о разности воспитания инструменталистов и певцов. Инструменталисты целенаправленно занимаются с детства, почти 20 лет готовятся к профессиональной работе. «Молодые певцы находятся на совершенно другом уровне культурного и музыкального развития, чем инструменталисты». К тому же и голос у многих по-настоящему формируется примерно к 20 годам. Если в отношении пианистов или скрипачей Вишневская права на 100 процентов (детей, игравших на этих инструментах, традиционно нацеливали на сольную карьеру, существовал огромный и разнообразный репертуар), то в отношении виолончелистов — не вполне. И многое в этом смысле изменил как раз Ростропович.
«Произведение, которое ты в данный момент исполняешь, должно быть для тебя лучшей музыкой в мире».
М.Л. Ростропович. Из книги Э. Уилсон «Мстислав Ростропович» (2011 г.)
С юности и М.Р., и Г.В. мечтали вырваться за школьные рамки профессии. На склоне лет Вишневская говорила Александру Сокурову (документальный фильм «Элегия жизни», 2006): «Что главное в артисте? То, чем он живет. То, что он читает. Внутреннее воспитание, через которое сам себя проводишь». Это внутреннее воспитание невероятно их сближало.
«Ростропович — моя фамилия!» Так воскликнул Ростропович в загсе в момент официального бракосочетания с Галиной Вишневской в 1955 году; молодая сотрудница искренне советовала молодому человеку стать Вишневским, закрепив фамилию, доставшуюся молодой супруге от скоротечного (двухмесячного) брака с бравым матросом. Интересна психологическая и социальная подоплека. К моменту начала их совместной жизни Ростропович был выдающимся виртуозом, лауреатом Всесоюзного (1945 года) и ряда международных конкурсов; он ездил не только в страны «социалистического лагеря», но и в некоторые капиталистические, не говоря уже о выступлении в лучших залах СССР. Вишневская была молодой солисткой Большого театра — главного театра страны, — и в социальной иерархии, в массовом сознании ее положение, известность были гораздо выше. Прошло меньше десяти лет, и Ростропович совершил невозможное: его кипучая деятельность привела к моде на виолончель. Примерно так же происходит с каким-либо видом спорта после яркой победы атлета на Олимпийских играх или чемпионате мира. В дальнейшем публичная слава Ростроповича перешагнула все мыслимые и немыслимые границы: казалось, его знали все и он знал всех — от рабочих сцены до президентов и монархов. Конечно, помогла и дирижерская деятельность — Ростропович работал с оркестрами мировой суперлиги. Тем не менее одно то, что он сделал для своего главного инструмента, — уникально в рамках отдельной жизни.
«Наши концерты — человеческое общение…» Это начало высказывания из мемуаров Галины Вишневской. По Саше Черному, «продолжение было такое»: «…которого мы были лишены в жизни, месяцами живя врозь, занимаясь каждый своим делом, и которого так недоставало мне». По воспоминаниям Элизабет Уилсон: «Их первый совместный концерт состоялся в Таллине 13 сентября 1957 года. По стечению обстоятельств у Вишневской не оказалось концертмейстера, и Ростропович предложил свою помощь <…> Было ясно, что их музицирование основано на общности взглядов двух сильных индивидуальностей <…> По свидетельству Галины Павловны, Мстиславу Леопольдовичу подчас нелегко было найти время для репетиций; перед началом их совместной работы он всегда старался выучить программу наизусть, хотя часто это получалось лишь в последнюю минуту. Однако любые трения, возникавшие в процессе лихорадочной подготовки, неизменно рассеивались на сцене, где оба обретали полную свободу для творчества. Музыкальное партнерство, несомненно, питалось их взаимным желанием учиться друг у друга. Ростропович очень любил не только оперу (эта привязанность возникла еще в Оренбурге) и богатую русскую вокальную литературу, но и понимал, как можно обогатить свой инструментализм приемами вокальной техники. Со своей стороны, Вишневской был близок его философский подход к музыке, и она призналась, что у него училась дыханию, наблюдая за его смычком с его плавными сменами и способностью создавать непрерывную линию фразы <…> Фортепианная игра Мстислава Леопольдовича отличалась изысканностью звука и богатейшим тембровым разнообразием благодаря его глубокому знанию оркестра».
«Наши концерты — человеческое общение…» Это начало высказывания из мемуаров Галины Вишневской. По Саше Черному, «продолжение было такое»: «…которого мы были лишены в жизни, месяцами живя врозь, занимаясь каждый своим делом, и которого так недоставало мне». По воспоминаниям Элизабет Уилсон: «Их первый совместный концерт состоялся в Таллине 13 сентября 1957 года. По стечению обстоятельств у Вишневской не оказалось концертмейстера, и Ростропович предложил свою помощь <…> Было ясно, что их музицирование основано на общности взглядов двух сильных индивидуальностей <…> По свидетельству Галины Павловны, Мстиславу Леопольдовичу подчас нелегко было найти время для репетиций; перед началом их совместной работы он всегда старался выучить программу наизусть, хотя часто это получалось лишь в последнюю минуту. Однако любые трения, возникавшие в процессе лихорадочной подготовки, неизменно рассеивались на сцене, где оба обретали полную свободу для творчества. Музыкальное партнерство, несомненно, питалось их взаимным желанием учиться друг у друга. Ростропович очень любил не только оперу (эта привязанность возникла еще в Оренбурге) и богатую русскую вокальную литературу, но и понимал, как можно обогатить свой инструментализм приемами вокальной техники. Со своей стороны, Вишневской был близок его философский подход к музыке, и она призналась, что у него училась дыханию, наблюдая за его смычком с его плавными сменами и способностью создавать непрерывную линию фразы <…> Фортепианная игра Мстислава Леопольдовича отличалась изысканностью звука и богатейшим тембровым разнообразием благодаря его глубокому знанию оркестра».
Вишневская, несомненно, могла бы концертировать с лучшими концертмейстерами СССР, — но ей нужен был не концертмейстер, а нечто большее и сущностно иное. Влияние Ростроповича на Вишневскую более очевидно и наглядно: во-первых, в дирижерском мышлении (свойственном ему задолго до начала собственно дирижерской карьеры), умении выстроить драматургию, баланс деталей и целого; во-вторых, в погружении в совершенно новые музыкальные стили, открытие репертуарных горизонтов, совершенно не типичных для русской оперной и камерной вокальной культуры. (Безусловно, творческим ростом певица обязана не одному Ростроповичу: особенного упоминания заслуживают ее любимый дирижер, выдающийся оперный маэстро Александр Мелик-Пашаев, реформатор оперного театра Борис Покровский, прекрасные партнеры, среди которых Сергей Лемешев.) Ростропович действительно познакомил Вишневскую со многими творцами XX века, например, Бенджамином Бриттеном. Но Дмитрия Шостаковича Вишневская узнала до знакомства с Ростроповичем (в 1954 году, когда великий композитор был приглашен музыкальным консультантом Большого театра). Ростропович, конечно, знал Шостаковича задолго до того, еще в консерваторские годы, а в 1945-м великий композитор настоял на присуждении молодому музыканту 1-й премии III Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. Несомненно, однако, что Ростропович погрузил Вишневскую в контекст новой музыки. Например, с первых дней брака Ростропович влюбил жену еще даже не в музыку — в личность Сергея Прокофьева. И конечно, не случайно одними из лучших ролей Вишневской в музыкальном театре стали Катерина (фильм-опера «Катерина Измайлова» Дмитрия Шостаковича, режиссер Михаил Шапиро, дирижер Константин Симеонов) и Полина в «Игроке»
Сергея Прокофьева (премьера феноменального спектакля режиссера Бориса Покровского и музыкального руководителя Александра Лазарева прошла в апреле 1974 года, за считанные недели до отъезда Вишневской и Ростроповича из СССР).
Сергея Прокофьева (премьера феноменального спектакля режиссера Бориса Покровского и музыкального руководителя Александра Лазарева прошла в апреле 1974 года, за считанные недели до отъезда Вишневской и Ростроповича из СССР).
«Единственное место, где я была сама собой, — сцена. И еще дома…»
Г.П. Вишневская. Из интервью А.Н. Сокурову «Элегия жизни. Ростропович, Вишневская» (2006 г.)
В 1968 году огромным событием стала постановка в Большом театре оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского: музыкальным руководителем был Ростропович, режиссером-постановщиком — Покровский. Успех был ошеломляющий: музыка звучала по-новому, Ростроповичу удалось избавиться от исполнительских штампов. Татьяна Вишневской — пожалуй, ярчайшее воплощение образа и в карьере певицы, и в истории отечественного музыкального театра XX века. В последующие три года Ростропович периодически дирижировал этой оперой, а также «Войной и миром» Прокофьева.
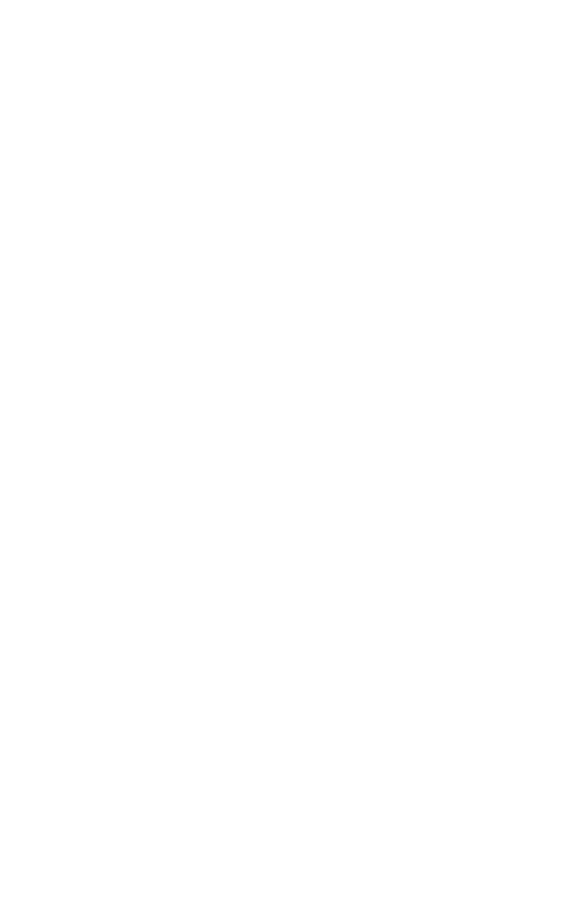
М.Л. Ростропович и Г.П. Вишневская со старшей дочерью Ольгой в своей квартире. Москва. 1959 г.
Тема «Ростропович, Вишневская и новая музыка» естественно вытекает из предыдущей. Необходимая ремарка: в профессиональных кругах новой называют не просто музыку современника (ныне живущего автора), но сочинение, язык которого труден для восприятия и самими музыкантами, дирижерами, и — следовательно — основной массой слушателей.
В одной из лучших статей о Ростроповиче, написанной к его сороковинам (июнь 2007 года) и опубликованной в журнале «Музыкальная академия» (№ 3, 2007), виолончелист и музыковед Александр Ивашкин говорит о беспримерном вкладе Ростроповича в новую (не только виолончельную) музыку: «Эту музыку он во многом сам и создал — начиная с [1949] года, когда работал с Мясковским над виолончельной партией его Второй виолончельной сонаты и чуть позже — с Прокофьевым над Симфонией-концертом и Концертино. Последней его премьерой стало Largo — одночастный концерт Пендерецкого, впервые сыгранный Славой на его двух прощальных выступлениях в качестве виолончелиста в Венском Музикферайне 19 и 20 июня 2005 года. А между ними — 149 сочинений для виолончели, им впервые исполненных… плюс 75 оркестровых сочинений, им заказанных и сыгранных; и 10 оперных премьер. Такой премьерный азарт был сродни золотой лихорадке, где, по его собственным словам, среди восьми-девяти сочинений “музыкальной руды” только одно могло быть по-настоящему стоящим и жизнеспособным… Но даже этот процент оказался достаточным, чтобы перевернуть все представления о виолончели, сделать этот громоздкий инструмент сегодня крайне популярным. Начиная с 1962 года, когда по инициативе Славы виолончелисты присоединились к скрипачам в конкурсе Чайковского, стали появляться десятки других виолончельных конкурсов и фестивалей. И одним из самых главных стал Конкурс Ростроповича во Франции — сначала в Ла-Рошели и позднее — в Париже (1977, 1981, 1986, 1990, 1994, 1997, 2001, 2005)».
В одной из лучших статей о Ростроповиче, написанной к его сороковинам (июнь 2007 года) и опубликованной в журнале «Музыкальная академия» (№ 3, 2007), виолончелист и музыковед Александр Ивашкин говорит о беспримерном вкладе Ростроповича в новую (не только виолончельную) музыку: «Эту музыку он во многом сам и создал — начиная с [1949] года, когда работал с Мясковским над виолончельной партией его Второй виолончельной сонаты и чуть позже — с Прокофьевым над Симфонией-концертом и Концертино. Последней его премьерой стало Largo — одночастный концерт Пендерецкого, впервые сыгранный Славой на его двух прощальных выступлениях в качестве виолончелиста в Венском Музикферайне 19 и 20 июня 2005 года. А между ними — 149 сочинений для виолончели, им впервые исполненных… плюс 75 оркестровых сочинений, им заказанных и сыгранных; и 10 оперных премьер. Такой премьерный азарт был сродни золотой лихорадке, где, по его собственным словам, среди восьми-девяти сочинений “музыкальной руды” только одно могло быть по-настоящему стоящим и жизнеспособным… Но даже этот процент оказался достаточным, чтобы перевернуть все представления о виолончели, сделать этот громоздкий инструмент сегодня крайне популярным. Начиная с 1962 года, когда по инициативе Славы виолончелисты присоединились к скрипачам в конкурсе Чайковского, стали появляться десятки других виолончельных конкурсов и фестивалей. И одним из самых главных стал Конкурс Ростроповича во Франции — сначала в Ла-Рошели и позднее — в Париже (1977, 1981, 1986, 1990, 1994, 1997, 2001, 2005)».
В начало списка нужно поместить Виолончельный концерт Николая Мясковского, который Ростропович играл на Всесоюзном конкурсе 1945 года. А первым сочинением, посвященным Мстиславу Ростроповичу, стал Концерт для виолончели с оркестром Рейнгольда Глиэра (1947). Далее — слово Ростроповичу: «Мясковский привел меня к Прокофьеву, через Прокофьева я косвенным путем пришел к Шостаковичу, а через Шостаковича — к Бриттену». Пожалуй, три последних автора образуют одну из главных линий виолончельного искусства XX века: Соната для виолончели и фортепиано (1949), Симфония- концерт для виолончели с оркестром (1952) и Концертино для виолончели с оркестром Сергея Прокофьева (1953; сочинение завершено при участии Ростроповича), два Концерта для виолончели с оркестром Дмитрия Шостаковича (1959, 1966), Симфония для виолончели с оркестром (1963) и три сюиты для виолончели соло Бриттена (1964, 1967, 1972) — шедевры из шедевров.
Первый из многочисленных просветительских подвигов Ростроповича — цикл из 11 концертов в Московской консерватории 1963–1964 годов, в которых Ростроповичем и его учениками были сыграны 44 сочинения, среди них множество премьер для виолончели с оркестром. В 1964 году за этот цикл Ростропович стал лауреатом Ленинской премии. Среди 10 опер, написанных по заказу Мстислава Ростроповича, — «Жизнь с идиотом» (1992) и «Джезуальдо» (1995) Альфреда Шнитке, «Лолита» Родиона Щедрина (1994). В 1996 году Ростропович вернул к жизни первую редакцию единственной оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда»: концертные исполнения под его управлением прошли в Москве и Санкт-Петербурге.
Первый из многочисленных просветительских подвигов Ростроповича — цикл из 11 концертов в Московской консерватории 1963–1964 годов, в которых Ростроповичем и его учениками были сыграны 44 сочинения, среди них множество премьер для виолончели с оркестром. В 1964 году за этот цикл Ростропович стал лауреатом Ленинской премии. Среди 10 опер, написанных по заказу Мстислава Ростроповича, — «Жизнь с идиотом» (1992) и «Джезуальдо» (1995) Альфреда Шнитке, «Лолита» Родиона Щедрина (1994). В 1996 году Ростропович вернул к жизни первую редакцию единственной оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда»: концертные исполнения под его управлением прошли в Москве и Санкт-Петербурге.
«Покопайтесь в своем личном опыте. Вы должны использовать образы и ощущения, которые принадлежат только вам».
М.Л. Ростропович. Из книги Э. Уилсон «Мстислав Ростропович» (2011 г.)
Сочинений, написанных для Галины Вишневской, конечно, меньше, но все они — шедевры. Начнем с Шостаковича: вокальный цикл «Сатиры» на стихи Саши Черного (1960); оркестровая версия «Песен и плясок смерти» Мусоргского (1962); вокально-инструментальная сюита «Семь стихотворений
А. Блока» для сопрано, фортепиано, скрипки и виолончели (1967; формально посвящена 50-летию Октябрьской революции, фактически же создавалась в расчете на Вишневскую). В 1969 году по явилась Четырнадцатая симфония для сопрано, баса, струнного оркестра и расширенного состава ударных. Далее — Бриттен. Одно из лучших его кантатно-ораториальных сочинений, «Военный реквием», создавалось в 1962 году с мыслью об участии в премьере Галины Вишневской. Написанное по случаю восстановления разрушенного во время Второй мировой войны Кафедрального собора Св. Михаила в Ковентри, произведение символизировало примирение врагов. Партнерами Вишневской должны были стать британский тенор Питер Пирс и немецкий баритон Дитрих Фишер-Дискау. Однако советские власти в свойственном им унизительном ключе отказали Вишневской в участии в премьере. Этот случай стал одним из первых столкновений звезды Большого театра с советским истеблишментом. Правда, через год певица все же участвовала в первой записи сочинения под управлением автора. В 1965 году прошла премьера вокального цикла Бриттена «Эхо поэта» (6 стихотворений А.С. Пушкина, звучат на русском языке); он был создан для Гали и Славы.
А. Блока» для сопрано, фортепиано, скрипки и виолончели (1967; формально посвящена 50-летию Октябрьской революции, фактически же создавалась в расчете на Вишневскую). В 1969 году по явилась Четырнадцатая симфония для сопрано, баса, струнного оркестра и расширенного состава ударных. Далее — Бриттен. Одно из лучших его кантатно-ораториальных сочинений, «Военный реквием», создавалось в 1962 году с мыслью об участии в премьере Галины Вишневской. Написанное по случаю восстановления разрушенного во время Второй мировой войны Кафедрального собора Св. Михаила в Ковентри, произведение символизировало примирение врагов. Партнерами Вишневской должны были стать британский тенор Питер Пирс и немецкий баритон Дитрих Фишер-Дискау. Однако советские власти в свойственном им унизительном ключе отказали Вишневской в участии в премьере. Этот случай стал одним из первых столкновений звезды Большого театра с советским истеблишментом. Правда, через год певица все же участвовала в первой записи сочинения под управлением автора. В 1965 году прошла премьера вокального цикла Бриттена «Эхо поэта» (6 стихотворений А.С. Пушкина, звучат на русском языке); он был создан для Гали и Славы.
«Этот день я запомнила на всю жизнь…» 21 августа 1968 года в лондонском Альберт-холле открылся Фестиваль советского искусства. В программе первого отделения — Концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака в исполнении Мстислава Ростроповича и Государственного академического симфонического оркестра СССР Евгения Светланова. В тот же день советские войска вошли в Прагу. Эти события, как писала в мемуарах Вишневская, «захлопнули книгу былой благополучной жизни». Дальнейшее хорошо известно: дружба с Александром Солженицыным, предоставление для проживания своей дачи. Затем — открытое письмо Ростроповича главным редакторам советских газет 31 октября 1970 года, «невыносимая обстановка травли и позорного ограничения нашей творческой деятельности» (из письма Г.В. и М.Р. Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу), отмена выступлений в престижных залах, гастролей и даже начавшихся проектов (запись «Тоски» Джакомо Пуччини на фирме «Мелодия» под управлением Ростроповича с участием Вишневской). В 1971 году в последний момент под угрозой международного скандала Ростроповичу разрешили дирижировать «Войной и миром» Прокофьева на гастролях в Венской опере. 10 мая 1974 года прошел прощальный концерт дирижера Ростроповича со студенческим симфоническим оркестром Московской консерватории; очевидцы рассказывали, что такой пронзительной Шестой симфонии Чайковского они не слышали никогда. Вскоре Ростропович и Вишневская уехали за границу в «творческую командировку сроком на два года» (формулировка приказа Министерства культуру СССР; впоследствии срок продлевался). Наконец, 16 марта 1978 года в газете «Известия» был опубликован материал «Идейные перерожденцы», в котором перечислялись многочисленные «грехи» звездной пары и сообщалось о лишении их советского гражданства.
По вполне очевидным причинам, именно Ростропович стал локомотивом противостояния художников и власти. Человек с обостренным чувством справедливости, он слишком хорошо помнил, как в 1948 году партийное постановление разгромило советскую музыку, как на позорных судилищах под названием «собрания композиторов и музыковедов» (они напоминали процессы средневековой инквизиции) шельмовали его кумиров Прокофьева и Шостаковича. «Когда все остальные отвернулись от Прокофьева, единственным человеком, который оставался рядом с ним, был Ростропович», — замечает Элизабет Уилсон.
Безусловно, кампания против Ростроповича и Вишневской существовала; в нее были втянуты, а часто — втягивались самостоятельно многие коллеги. Однако верно и то, что у Ростроповича и Вишневской существовали высокие покровители (в частности, министр внутренних дел СССР Н.А. Щелоков), как и то, что иногда звездная пара сознательно шла на обострение конфликта. Сама формулировка отъезда привела в ярость многих музыкантов: по существовавшим законам, советский артист мог находиться на зарубежных гастролях не более 90 дней в году. Вскоре в Министерство культуры потянулись «ходоки»: звездные артисты требовали для себя особых условий, «как у Вишневской». Полная ясность в вопросе наступит лишь тогда, когда будут опубликованы в достаточном объеме и прокомментированы специалистами архивные документы.
По вполне очевидным причинам, именно Ростропович стал локомотивом противостояния художников и власти. Человек с обостренным чувством справедливости, он слишком хорошо помнил, как в 1948 году партийное постановление разгромило советскую музыку, как на позорных судилищах под названием «собрания композиторов и музыковедов» (они напоминали процессы средневековой инквизиции) шельмовали его кумиров Прокофьева и Шостаковича. «Когда все остальные отвернулись от Прокофьева, единственным человеком, который оставался рядом с ним, был Ростропович», — замечает Элизабет Уилсон.
Безусловно, кампания против Ростроповича и Вишневской существовала; в нее были втянуты, а часто — втягивались самостоятельно многие коллеги. Однако верно и то, что у Ростроповича и Вишневской существовали высокие покровители (в частности, министр внутренних дел СССР Н.А. Щелоков), как и то, что иногда звездная пара сознательно шла на обострение конфликта. Сама формулировка отъезда привела в ярость многих музыкантов: по существовавшим законам, советский артист мог находиться на зарубежных гастролях не более 90 дней в году. Вскоре в Министерство культуры потянулись «ходоки»: звездные артисты требовали для себя особых условий, «как у Вишневской». Полная ясность в вопросе наступит лишь тогда, когда будут опубликованы в достаточном объеме и прокомментированы специалистами архивные документы.
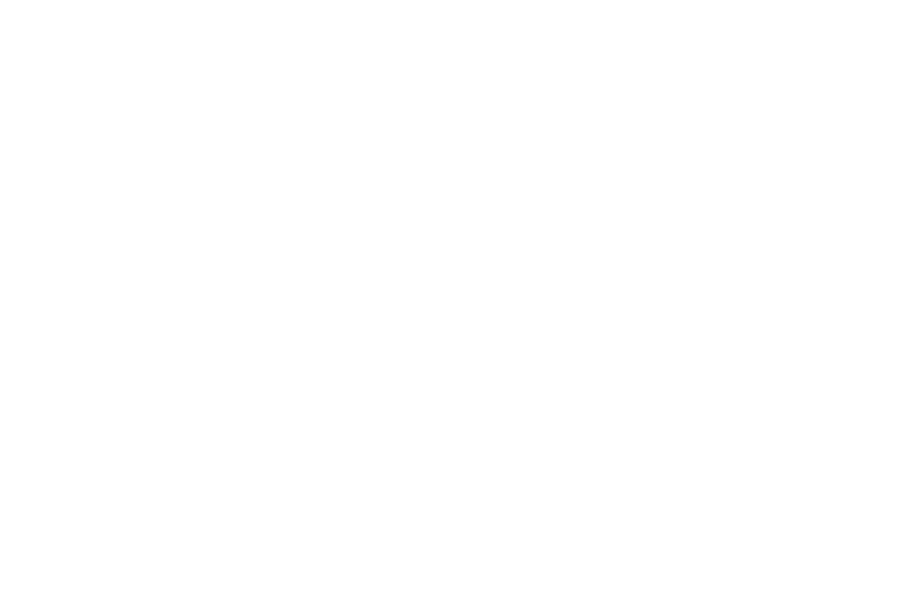
М.Л. Ростропович. Москва. 1991 г.
«Приезжайте, Галя, будем вас ждать…» Так прощался с друзьями смертельно больной Дмитрий Шостакович. Он, как и многие другие, не дожил до новых времен. В начале 1990 года Ростроповичу и Вишневской вернули советское гражданство (которое они, впрочем, не приняли, заявив, что не просили «ни лишать, ни возвращать»). Этому предшествовало открытое письмо деятелей культуры в Верховный совет СССР. К тому времени Вишневская официально завершила карьеру оперной певицы (в 1982 году спев Татьяну в спектакле парижской Гранд-опера под управлением М.Р.), Ростропович же находился в зените дирижерской славы. «Особенно важным для него был период руководства Вашингтонским национальным оркестром (1977–1994) и долгое сотрудничество с Лондонским симфоническим оркестром… Он записал все симфонии Шостаковича именно c этими двумя оркестрами, как результат многолетней работы с ними. Много выступал и с крупнейшими оркестрами Европы, Америки и Японии» (Александр Ивашкин). Количество его наград, почетных званий, знаков отличия исчисляется сотнями. В 2002 году лондонская Times объявила его «величайшим из ныне живущих музыкантов».
В 1991 году Ростропович стал символом демократии: он примчался в московский Белый дом и провел вместе с его защитниками тревожные дни августовского путча. Фотография Юрия Феклистова, на которой М.Р. одной рукой держит автомат, а другой обнимает спящего защитника Белого дома (Юрий Иванов, в то время помощник депутата Верховного совета России), обошла весь мир.
В постсоветский период Вишневской удалось отчасти реализовать потенциал драматической актрисы. Она сыграла Екатерину Великую в спектакле МХТ имени А.П. Чехова «За зеркалом» (пьеса Елены Греминой, 1993) и в том же году — Кручинину в кинофильме «Провинцицальный бенефис» Александра Белинского по мотивам пьес А.Н. Островского. В 2007 году на экраны вышел фильм Александра Сокурова «Александра» с Вишневской в главной роли: ее героиня — бабушка, навещающая внука-офицера в военном городке в Чечне.
Ростропович и Вишневская по-прежнему более всего ценили независимость. В 1997 году М.Р. отказался отмечать 70-летие в Москве, узнав, что оно обойдется в миллион с лишним долларов бюджетных средств. В результате дату праздновали на его родине, в Баку, и в Париже. В 1999 году в Самарском театре оперы и балета режиссер Роберт Стуруа и музыкальный руководитель Мстислав Ростропович осуществили мировую премьеру оперы Сергея Слонимского «Видения Иоанна Грозного». По городу поползли печально знакомые сплетни об «иудейском глумлении над памятью русского царя». В 2006 году Галина Вишневская, возмущенная новой постановкой оперы «Евгений Онегин» Чайковского в Большом театре, отказалась праздновать 80-летие в аlma mater.
В постсоветский период Вишневской удалось отчасти реализовать потенциал драматической актрисы. Она сыграла Екатерину Великую в спектакле МХТ имени А.П. Чехова «За зеркалом» (пьеса Елены Греминой, 1993) и в том же году — Кручинину в кинофильме «Провинцицальный бенефис» Александра Белинского по мотивам пьес А.Н. Островского. В 2007 году на экраны вышел фильм Александра Сокурова «Александра» с Вишневской в главной роли: ее героиня — бабушка, навещающая внука-офицера в военном городке в Чечне.
Ростропович и Вишневская по-прежнему более всего ценили независимость. В 1997 году М.Р. отказался отмечать 70-летие в Москве, узнав, что оно обойдется в миллион с лишним долларов бюджетных средств. В результате дату праздновали на его родине, в Баку, и в Париже. В 1999 году в Самарском театре оперы и балета режиссер Роберт Стуруа и музыкальный руководитель Мстислав Ростропович осуществили мировую премьеру оперы Сергея Слонимского «Видения Иоанна Грозного». По городу поползли печально знакомые сплетни об «иудейском глумлении над памятью русского царя». В 2006 году Галина Вишневская, возмущенная новой постановкой оперы «Евгений Онегин» Чайковского в Большом театре, отказалась праздновать 80-летие в аlma mater.
«Странно, что, несмотря на такую молниеносную женитьбу, мы не открыли для себя в будущем никаких неприятных сюрпризов».
Г.П. Вишневская. «Галина. История жизни» (1991 г.)
«Он побуждал видеть дальше четырех струн…» Эти слова о педагогике Ростроповича можно в той же мере адресовать и Вишневской. Они учили не только игре на инструменте или пению, но — музыке! За 26 лет (с 1948 по 1974-й) преподавания в Московской консерватории Ростропович прошел все этапы — от молодого педагога до профессора и зав. кафедрой виолончели и контрабаса, воспитал многих замечательных артистов. Среди них Наталья Шаховская, Марк Дробинский, Давид Герингас, Миша Майский; в Ленинградской консерватории (где он вел класс аспирантов) у него занималась Наталия Гутман. Короткое время студенткой Ростроповича была так рано покинувшая нас Жаклин дю Пре. У него учились впоследствии выдающиеся композиторы Юрий Фалик и Александр Кнайфель. В дальнейшем формы его педагогики менялись (мастер-классы, воспитание оркестрантов и т. д.), суть же оставалась. Ростропович всегда шел от музыки и одновременно от индивидуальности музыканта. Он не игнорировал так называемую технологию, но не она была главной: за один урок он мог дать «достаточно пищи для размышлений на следующие два месяца»
(Э. Уилсон).
(Э. Уилсон).
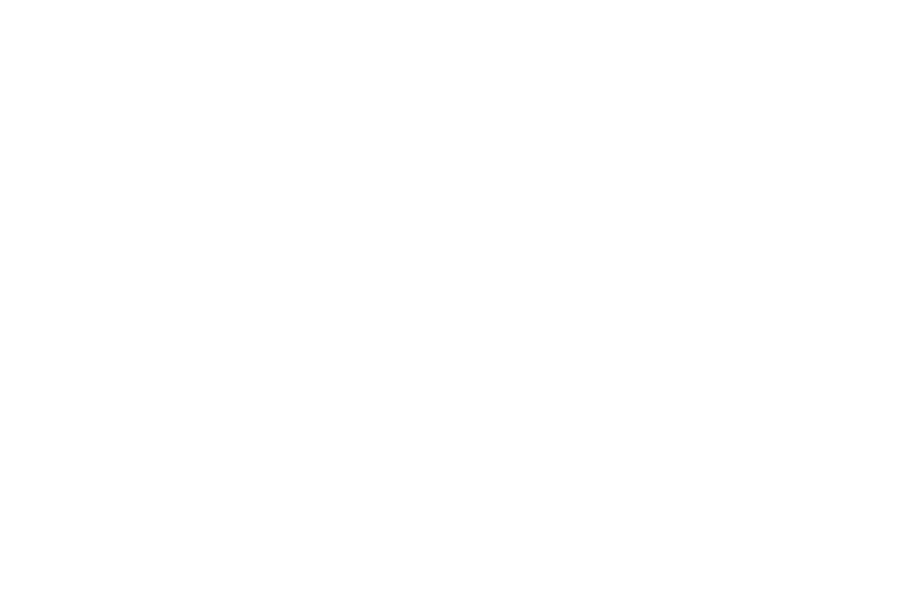
М.Л. Ростропович и Г.П. Вишневская поздравляют А.И. Солженицына (второй справа) и его жену Наталию Дмитриевну с 80-летием писателя. На дальнем плане — режиссер Ю.П. Любимов. Москва. 11 декабря 1998 г.
Галина Вишневская по-настоящему обратилась к педагогике во второй половине жизни. Кульминацией стало открытие в 2002 году Центра оперного пения. В нем молодые артисты шлифовались в реальной обстановке оперного театра. «Наша школа уникальна, и по своей методике, и по возможностям, которые мы предоставляем студентам <…> На Западе подобные школы ютятся в маленьких помещениях, у нас же — настоящий оперный театр, полностью предоставленный молодым певцам».
Все остается людям. Ну или почти все… К сожалению, прекратил существование парижский конкурс Мстислава Ростроповича. Но живет Конкурс оперных певцов Галины Вишневской, основанный в 2006 году, как и Центр оперного пения. Действуют два фонда — Ростроповича и Ростроповича — Вишневской. Второй из них — медицинской и социальной направленности — был основан в 1991 году; одно из главных направлений его деятельности — эпидемиологический мониторинг, бесплатная вакцинация, иммунизация детей и подростков.
Все остается людям. Ну или почти все… К сожалению, прекратил существование парижский конкурс Мстислава Ростроповича. Но живет Конкурс оперных певцов Галины Вишневской, основанный в 2006 году, как и Центр оперного пения. Действуют два фонда — Ростроповича и Ростроповича — Вишневской. Второй из них — медицинской и социальной направленности — был основан в 1991 году; одно из главных направлений его деятельности — эпидемиологический мониторинг, бесплатная вакцинация, иммунизация детей и подростков.
«О виолончели не думай. Виолончель — это я».
М.Л. Ростропович — В. Лютославскому.
Из книги Э. Уилсон «Мстислав Ростропович» (2011 г.)
Их имена носят малая планета, авиалайнер, конкурсы, премии, музыкальные школы и вузы… С 2010 года в Москве проходит ежегодный Международный фестиваль Мстислава Ростроповича; в нем участвуют выдающиеся симфонические коллективы и солисты мира. Художественный руководитель фестиваля — старшая дочь Ростроповича и Вишневской Ольга Ростропович.
Для автора этих строк главным памятником Ростроповичу в Москве стал музей-квартира Сергея Прокофьева. Один из филиалов Российского национального музея музыки, он открылся в 2008 году в квартире в Камергерском переулке (в советское время — проезд Художественного Театра). Этому предшествовали годы напряженной борьбы, и порой казалось, что даже авторитет великого музыканта бессилен перед суровыми реалиями 1990-х — слишком много было охотников захватить лакомый кусочек недвижимости в самом сердце Москвы. Трудно переоценить роль Ростроповича в том, что квартира, в которой жил и умер гений, не разделила печальную судьбу многих памятников истории и культуры...
Для автора этих строк главным памятником Ростроповичу в Москве стал музей-квартира Сергея Прокофьева. Один из филиалов Российского национального музея музыки, он открылся в 2008 году в квартире в Камергерском переулке (в советское время — проезд Художественного Театра). Этому предшествовали годы напряженной борьбы, и порой казалось, что даже авторитет великого музыканта бессилен перед суровыми реалиями 1990-х — слишком много было охотников захватить лакомый кусочек недвижимости в самом сердце Москвы. Трудно переоценить роль Ростроповича в том, что квартира, в которой жил и умер гений, не разделила печальную судьбу многих памятников истории и культуры...
«Что это значит — нет биографии?..» А ведь и правда — нет! Предвижу возражения: а как же книга о Ростроповиче Софьи Хентовой 1993 года или фолиант «Слава и Галина: симфония жизни» Тамары Грум-Гржимайло (2007)? И все же при обилии фактов, записей, интервью, воспоминаний, разного рода свидетельств трудно найти издание, фундаментально исследующее творчество каждого из этих великих артистов. Первая попытка такого постижения — великолепная книга Элизабет Уилсон, ученицы Ростроповича в 1964–1971 годах, дочери английского дипломата, посла Великобритании в СССР в 1968–1971 годах сэра Арчибальда Дункана Уилсона. Английское издание (с подзаголовком «Виолончелист. Учитель. Легенда») вышло в 2007-м, русское (в переводе К. Савельева) — в 2011 году. Предмет исследования — советский период творчества Ростроповича, и некоторые недостатки и неточности не отменяют главного: перед нами потрясающее исследование новизны искусства Ростроповича! А лучшей книгой о Вишневской пока остаются ее собственные, несколько раз переизданные мемуары «Галина. История жизни». Впервые они вышли на английском (1984), а через год и на русском языке (Париж); первая публикация на Родине — 1991 год. В этих написанных по горячим следам воспоминаниях заострены оценки и оттенки, иногда сгущены краски. Совершенно очевидно, что в период перестройки книга Вишневской стала (вольно или невольно) одним
из знамен идеологического противостояния. Тем не менее и в XXI веке она все еще откроет многим читателям и масштаб обеих фигур, и сложность, противоречивость, трагичность эпохи.
из знамен идеологического противостояния. Тем не менее и в XXI веке она все еще откроет многим читателям и масштаб обеих фигур, и сложность, противоречивость, трагичность эпохи.
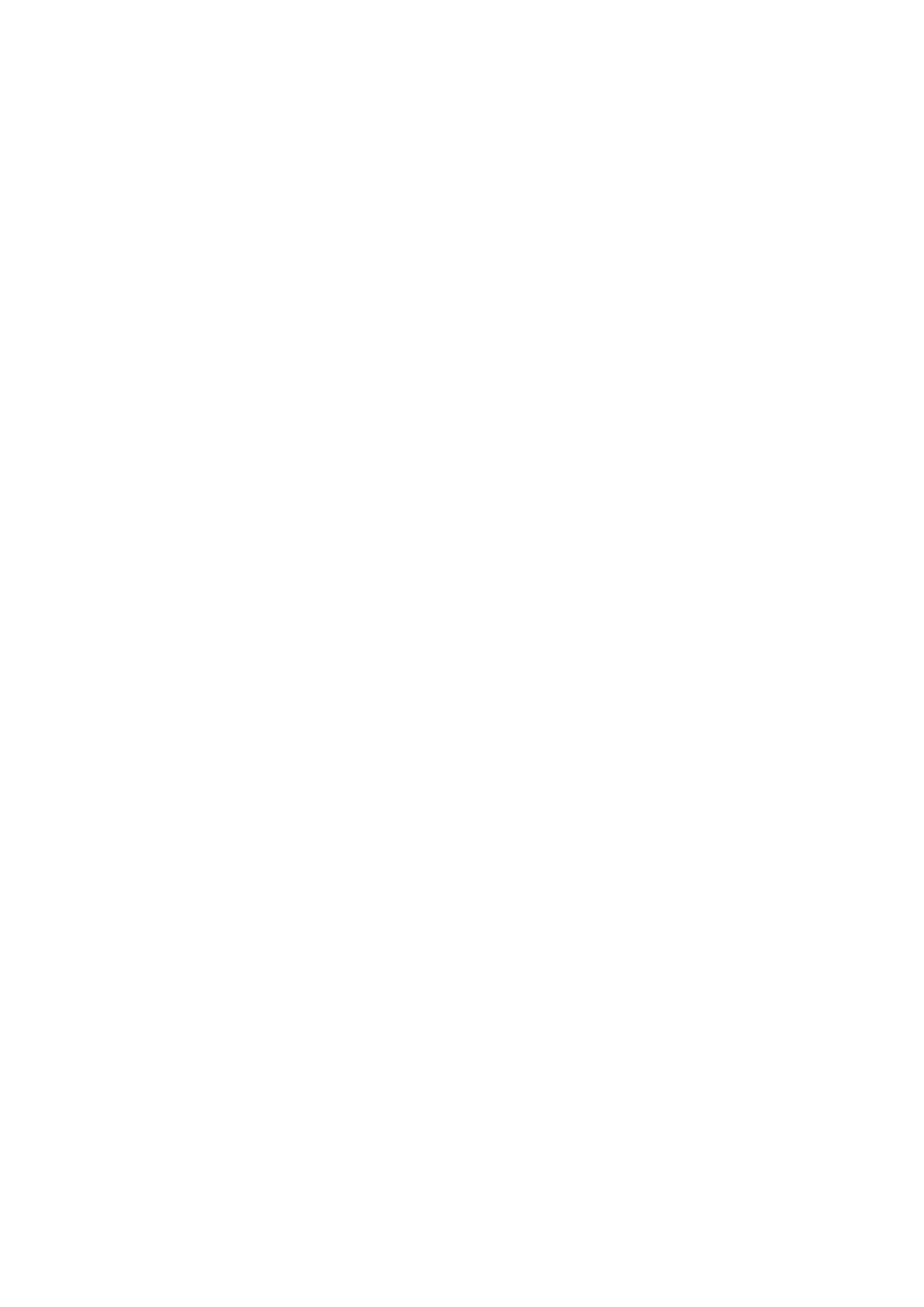
Вид на Эйфелеву башню от дворца Шайо
Во время жизни во Франции М.Л. Ростропович учредил международный конкурс академических виолончелистов, жюри которых возглавлял до конца своих дней. Именем Мстислава Ростроповича названа улица в Париже