Поэт радости
Сергей Сергеевич Прокофьев
(1891–1953)
(1891–1953)
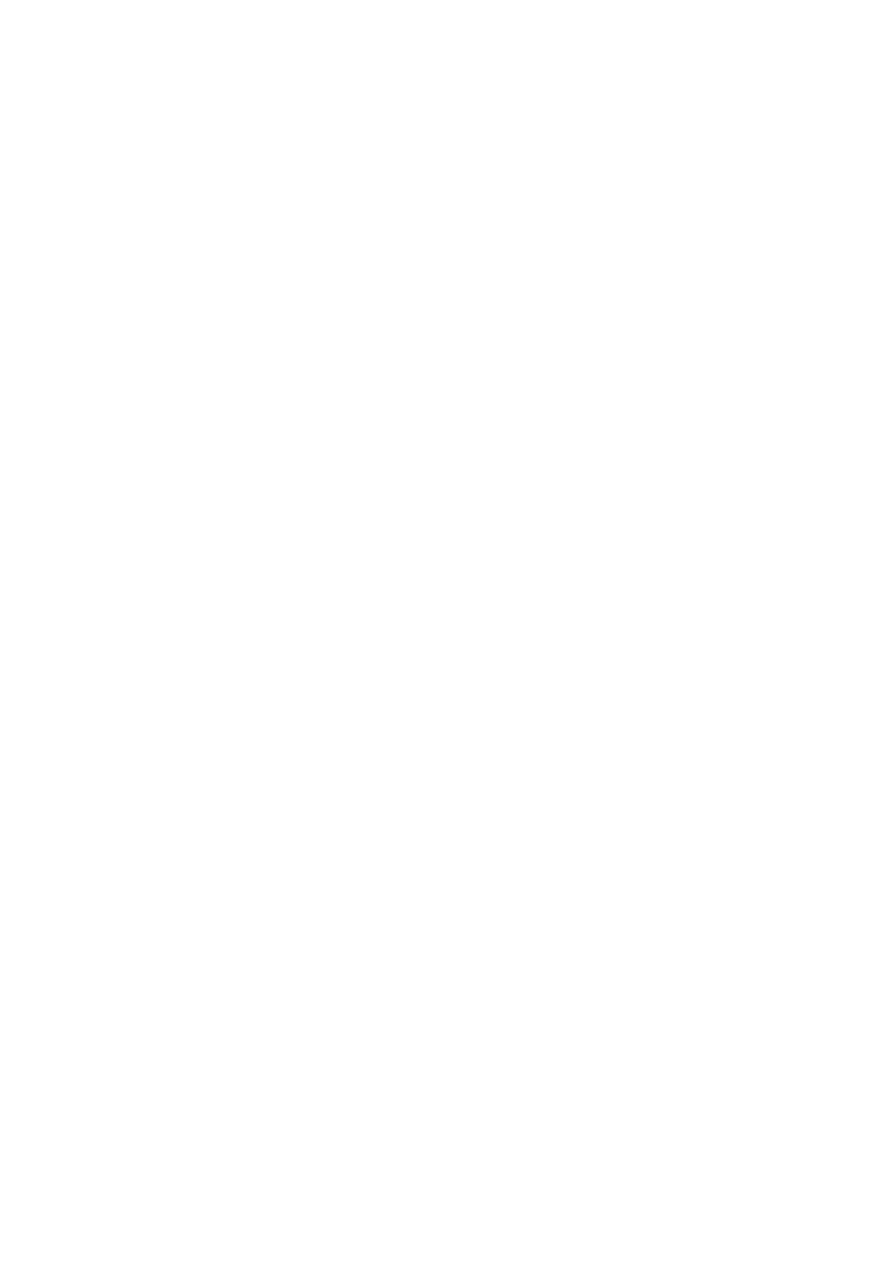
В мастерской Матисса
В 1921 году по просьбе Сергея Дягилева для программки к билету «Любовь к трем апельсинам» Анри Матисс нарисовал портрет Сергея Прокофьева
В 1921 году по просьбе Сергея Дягилева для программки к билету «Любовь к трем апельсинам» Анри Матисс нарисовал портрет Сергея Прокофьева
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
11 (23) апреля 1891 г. — родился в Сонцовке Екатеринославской губернии (теперь село Красное)
1902 г. — встреча с С.И. Танеевым, занятия с Р.М. Глиэром
1904 г. — поступил в Петербургскую консерваторию
1909 г. — окончил консерваторию по классу композиции
1914 г. — окончил консерваторию по классу фортепиано, получил премию А. Рубинштейна
1918 г. — уехал за границу
1922–1929 гг. — сотрудничал с С.П. Дягилевым
1927, 1929 г. — приезжал на гастроли в СССР
1933 г. — вернулся на родину
1940-е гг. — написал оперу «Война и мир»
5 марта 1953 г. — скончался в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище
11 (23) апреля 1891 г. — родился в Сонцовке Екатеринославской губернии (теперь село Красное)
1902 г. — встреча с С.И. Танеевым, занятия с Р.М. Глиэром
1904 г. — поступил в Петербургскую консерваторию
1909 г. — окончил консерваторию по классу композиции
1914 г. — окончил консерваторию по классу фортепиано, получил премию А. Рубинштейна
1918 г. — уехал за границу
1922–1929 гг. — сотрудничал с С.П. Дягилевым
1927, 1929 г. — приезжал на гастроли в СССР
1933 г. — вернулся на родину
1940-е гг. — написал оперу «Война и мир»
5 марта 1953 г. — скончался в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище
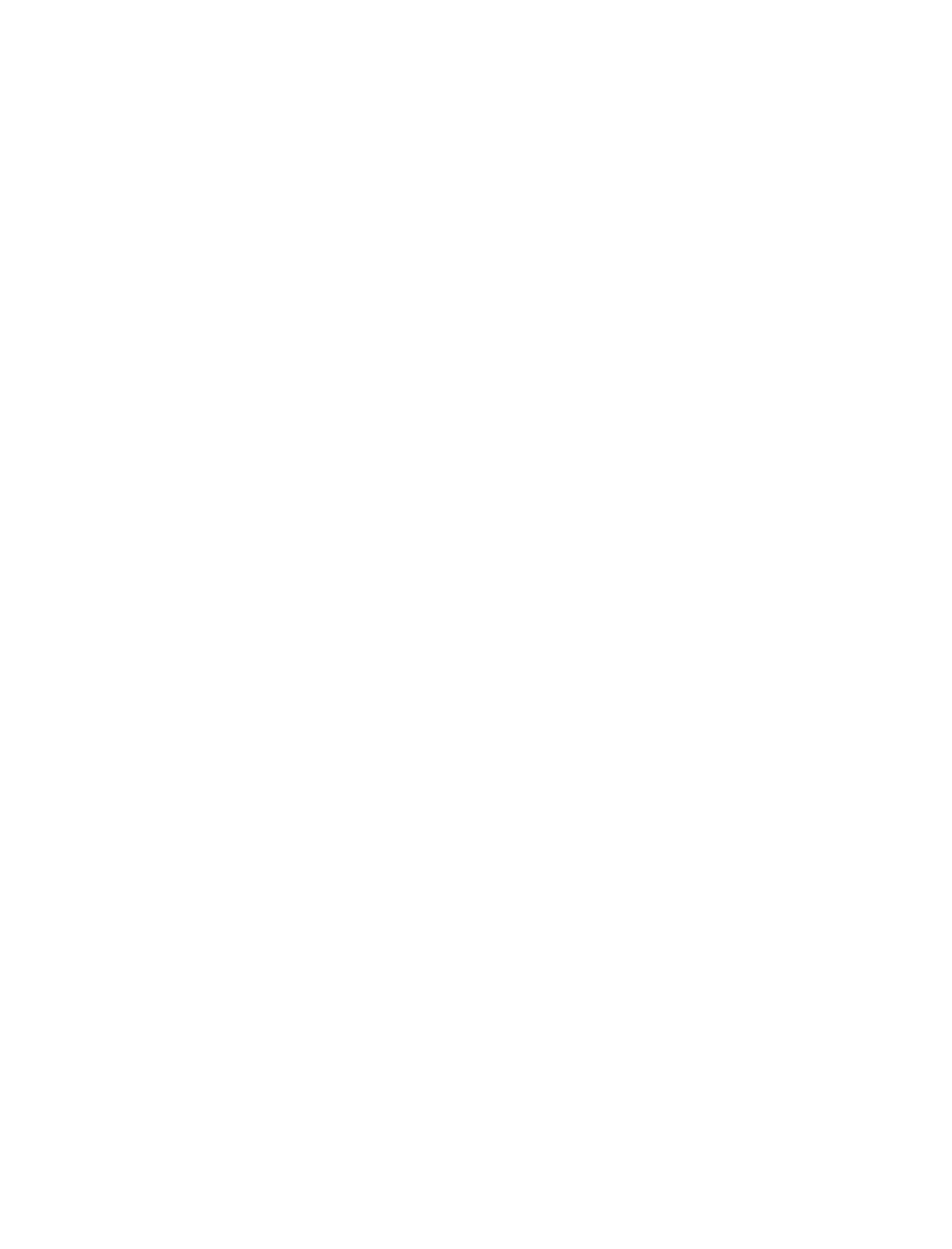
С.С. Прокофьев. Ленинград. Сентябрь 1949 г.
Друг и единомышленник Сергея Прокофьева, которого так часто называли «поэтом радости», В.В. Маяковский писал о нем так: «Воспринимаю сейчас музыку только Прокофьева — вот раздались первые звуки и — ворвалась жизнь, нет формы искусства, а жизнь — стремительный поток с гор или такой ливень, что выскочишь под него и закричишь — ах, как хорошо, еще, еще!» Это был звуковой поток мощнейшей солнечной энергии, которая чуть ли не физически заставляла слушателей слегка прищуриться и в то же время не могла не вызвать улыбки у них на лице.
Двадцатый век был его эпохой. Он — не из тех, о ком можно сказать, что время противоречило его природе, его психологии, его внутренним установкам. Как раз смелое, дерзкое новаторство, бунтарский дух, стремительность, озорство как нельзя более отвечали его дарованию. Между тем, как и Маяковский, он был удивительным лириком — но лириком нового времени, когда для создания проникновенных нежных тончайших образов требовались уже иные средства художественного языка.
Слух тех, кто привык к лирике П.И. Чайковского, музыка С.С. Прокофьева поначалу несколько озадачивала, казалась резкой, непривычной, но затем люди приучались к этому новому стилю с усложненной мелодией и гармонией, в которых может быть нарочитая угловатость, привыкали к нему и начинали различать изысканность там, где не сразу могли ее расслышать. Так это было, к примеру, с Галиной Улановой, которая исполняла роль Золушки в балете «Золушка» и Джульетты в балете «Ромео и Джульетта» и изначально сочла эту музыку сложной: «Но чем больше мы в нее вслушивались, тем ярче вставали перед нами образы, рождавшиеся из музыки. И постепенно пришло понимание, постепенно она становилась удобной для танца».
Композиторские и личностные черты Прокофьева были видны уже в детстве — своеобразное сочетание терпкого юмора, как это бывает у традиционного персонажа Арлекино, и нежности, трепетности. Самый близкий по духу ему персонаж — Меркуцио из «Ромео и Джульетты», а образы мечтательных трогательных девушек не лишены скерцозности, шаловливости («Джульетта-девочка» — с озорными «подскоками», ее можно сравнить с юной Наташей Ростовой). Дарование его ярко театрально, и даже когда Прокофьев пишет произведения без определенного сюжета (инструментальные), в них как бы «угадываются» различные характеры, «маски», поэтому так хорошо удавалась ему детская музыка.
Двадцатый век был его эпохой. Он — не из тех, о ком можно сказать, что время противоречило его природе, его психологии, его внутренним установкам. Как раз смелое, дерзкое новаторство, бунтарский дух, стремительность, озорство как нельзя более отвечали его дарованию. Между тем, как и Маяковский, он был удивительным лириком — но лириком нового времени, когда для создания проникновенных нежных тончайших образов требовались уже иные средства художественного языка.
Слух тех, кто привык к лирике П.И. Чайковского, музыка С.С. Прокофьева поначалу несколько озадачивала, казалась резкой, непривычной, но затем люди приучались к этому новому стилю с усложненной мелодией и гармонией, в которых может быть нарочитая угловатость, привыкали к нему и начинали различать изысканность там, где не сразу могли ее расслышать. Так это было, к примеру, с Галиной Улановой, которая исполняла роль Золушки в балете «Золушка» и Джульетты в балете «Ромео и Джульетта» и изначально сочла эту музыку сложной: «Но чем больше мы в нее вслушивались, тем ярче вставали перед нами образы, рождавшиеся из музыки. И постепенно пришло понимание, постепенно она становилась удобной для танца».
Композиторские и личностные черты Прокофьева были видны уже в детстве — своеобразное сочетание терпкого юмора, как это бывает у традиционного персонажа Арлекино, и нежности, трепетности. Самый близкий по духу ему персонаж — Меркуцио из «Ромео и Джульетты», а образы мечтательных трогательных девушек не лишены скерцозности, шаловливости («Джульетта-девочка» — с озорными «подскоками», ее можно сравнить с юной Наташей Ростовой). Дарование его ярко театрально, и даже когда Прокофьев пишет произведения без определенного сюжета (инструментальные), в них как бы «угадываются» различные характеры, «маски», поэтому так хорошо удавалась ему детская музыка.
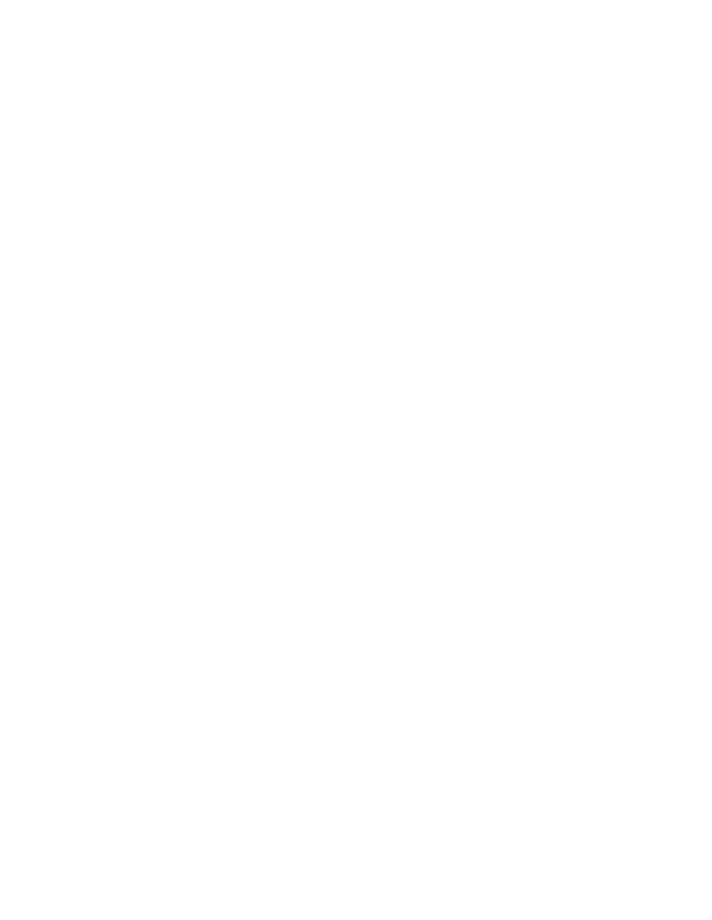
Сергей Прокофьев. Петербург. 1901 г.
Вот его собственные слова, которые как нельзя лучше характеризуют этот яркий, безудержный, жизнелюбивый нрав: «К этому времени, то есть к трем годам, относится мое первое воспоминание. Я кувыркаюсь на постели моего отца. Вокруг стоят родные. В передней звонок,
приехали гости. Все бегут встречать. Я продолжаю кувыркаться и, слетев с постели, ударяюсь лбом о железный сундук. Нечеловеческий рев, все бегут обратно. Удар был здоровенный — шишка на лбу осталась на все детство и юность и сравнялась лишь к тридцати годам. Когда, уже молодым человеком, я дирижировал в Париже, худож-ник Ларионов трогал ее пальцем и говорил: — А может, в ней-то и весь талант! Другое воспоминание менее эффектное: раннее утро или поздний вечер; меня только что разбудили, и я сижу на горшке; все суетятся и торопят меня — мы едем в Севастополь. Которое воспоминание более раннее, я в точности не помню, но думаю, что с кувырканием. Во всяком случае, хочется, чтобы оно было первым: уж очень шикарно проснуться к жизни от удара в лоб!»
приехали гости. Все бегут встречать. Я продолжаю кувыркаться и, слетев с постели, ударяюсь лбом о железный сундук. Нечеловеческий рев, все бегут обратно. Удар был здоровенный — шишка на лбу осталась на все детство и юность и сравнялась лишь к тридцати годам. Когда, уже молодым человеком, я дирижировал в Париже, худож-ник Ларионов трогал ее пальцем и говорил: — А может, в ней-то и весь талант! Другое воспоминание менее эффектное: раннее утро или поздний вечер; меня только что разбудили, и я сижу на горшке; все суетятся и торопят меня — мы едем в Севастополь. Которое воспоминание более раннее, я в точности не помню, но думаю, что с кувырканием. Во всяком случае, хочется, чтобы оно было первым: уж очень шикарно проснуться к жизни от удара в лоб!»
«Прокофьев с детства был счастливчиком, он всегда получал что хотел. У него никогда не было моих забот, у него всегда были деньги и успех и, как результат, характер избалованного вундеркинда.
Чехов как-то сказал: “Русский писатель живет в водосточной трубе, ест мокриц и любит прачек”. В этом смысле Прокофьев никогда не был русским, и именно поэтому его не потрясла перемена, произошедшая в его жизни. <…>
Прокофьев был неисправимым игроком и, в конечном счете, всегда побеждал. Он думал, что все точно рассчитал и на сей раз также выйдет победителем. Около пятнадцати лет Прокофьев сидел на двух стульях: на Западе его считали советским, а в России — приветствовали как гостя с Запада.
Но потом ситуация изменилась, и чиновники от культуры стали коситься на Прокофьева: мол, что это еще за парижанин? И он решил, что будет выгоднее переехать в СССР. Этот шаг должен был поднять его акции на Западе, потому что там как раз все советское входило в моду, а в СССР его перестали бы считать иностранцем, так что он выигрывал во всех отношениях».
Чехов как-то сказал: “Русский писатель живет в водосточной трубе, ест мокриц и любит прачек”. В этом смысле Прокофьев никогда не был русским, и именно поэтому его не потрясла перемена, произошедшая в его жизни. <…>
Прокофьев был неисправимым игроком и, в конечном счете, всегда побеждал. Он думал, что все точно рассчитал и на сей раз также выйдет победителем. Около пятнадцати лет Прокофьев сидел на двух стульях: на Западе его считали советским, а в России — приветствовали как гостя с Запада.
Но потом ситуация изменилась, и чиновники от культуры стали коситься на Прокофьева: мол, что это еще за парижанин? И он решил, что будет выгоднее переехать в СССР. Этот шаг должен был поднять его акции на Западе, потому что там как раз все советское входило в моду, а в СССР его перестали бы считать иностранцем, так что он выигрывал во всех отношениях».
Д.Д. Шостакович. Из книги С. М. Волкова «Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича» (1979 г.)
Оперный театр уже в детстве произвел на Прокофьева неизгладимое впечатление. В девять лет он написал оперу «Великан». Приглашенного заниматься с юным Сережей преподавателя Р.М. Глиэра поразило в ученике сочетание взрослого отношения к музыке и ребячества. На пюпитре у двенадцатилетнего мальчика, который сочинял оперу или симфонию, стояла резиновая кукла «Господин» в качестве слушателя. Мальчик живо интересовался окружающим миром, очень любил играть в шахматы — это увлечение сопровождало его на протяжении жизни.
Годы учебы в консерватории приучили его к кропотливой систематической работе. Первые его произведения вызывали резкие споры — они ошеломляли энергетикой одних и вызывали резкое неприятие у других. Его одночастный концерт для фортепиано с оркестром № 1 враждебные критики называли «футбольным», «варварским», предлагали надеть на автора «смирительную рубашку». Но проницательные критики — Асафьев, Мясковский — прониклись взрывной энергетикой автора, почувствовали в нем здоровое начало, обещающее очень многое впереди. В 1917 году Прокофьев познакомился с Маяковским в Петрограде. Выступления поэта произвели на него впечатление. Объединяло их то, что они отторгали искусство слишком изнеженное и рафинированное (воздыхания о «розах и соловьях») и считали, что нужна новая здоровая струя другой эпохи. Им импонировали намеренная резкость, острота, дерзость, натиск. Это не значило, что они — против лирики. Ни в коем случае. Но лирика должна преобразиться, стать иной — соответствовать духу нового времени и изменившегося сознания. К этому времени Прокофьев уже успел написать музыкальную сказку «Гадкий утенок» по сказке Андерсена — для голоса с фортепиано, нежное, обаятельное лирическое сочинение. Это доказывает, что он искал пути «обновления», отхода от штампов былой «красивости» в искусстве, свою индивидуальность.
Годы учебы в консерватории приучили его к кропотливой систематической работе. Первые его произведения вызывали резкие споры — они ошеломляли энергетикой одних и вызывали резкое неприятие у других. Его одночастный концерт для фортепиано с оркестром № 1 враждебные критики называли «футбольным», «варварским», предлагали надеть на автора «смирительную рубашку». Но проницательные критики — Асафьев, Мясковский — прониклись взрывной энергетикой автора, почувствовали в нем здоровое начало, обещающее очень многое впереди. В 1917 году Прокофьев познакомился с Маяковским в Петрограде. Выступления поэта произвели на него впечатление. Объединяло их то, что они отторгали искусство слишком изнеженное и рафинированное (воздыхания о «розах и соловьях») и считали, что нужна новая здоровая струя другой эпохи. Им импонировали намеренная резкость, острота, дерзость, натиск. Это не значило, что они — против лирики. Ни в коем случае. Но лирика должна преобразиться, стать иной — соответствовать духу нового времени и изменившегося сознания. К этому времени Прокофьев уже успел написать музыкальную сказку «Гадкий утенок» по сказке Андерсена — для голоса с фортепиано, нежное, обаятельное лирическое сочинение. Это доказывает, что он искал пути «обновления», отхода от штампов былой «красивости» в искусстве, свою индивидуальность.
Февральскую революцию 1917 года Прокофьев радостно приветствовал: «Февральская революция меня застала в Петрограде. И я и те круги, в которых я вращался, радостно приветствовали ее». Но после Октябрьской он, как и многие русские музыканты, решил, что на родине сейчас не до музыки. (Позже в «Автобиографии» он писал: «То, что я, как всякий гражданин, могу ей быть полезен, еще не дошло до моего сознания».) И, получив разрешение наркома просвещения А.В. Луначарского, уехал за границу, где пробыл пятнадцать лет.
Как блестящий пианист и опытный дирижер Прокофьев имел большой успех в Европе, Японии, США, Канаде, на Кубе. О его игре писали: «Пианист-титан», «Вулканическое извержение за клавиатурой», «Карнавал какофонии», «Атака мамонтов на азиатском плато».
Заголовки газет могут показаться двусмысленными, но публика была заворожена. За границей Прокофьев встречался с Равелем, Рахманиновым, Стравинским, Дягилевым, Чарли Чаплином. В 1922 году он решил поселиться в Париже, который был тогда центром авангарда. Как человек любознательный, пытливый, любящий эксперименты, он с удовольствием погрузился в художественную атмосферу зарубежья. При этом Прокофьев, в отличие от многих, не был тем, кто пытался отличиться, делая эксперименты ради экспериментов, у него новаторство шло изнутри, это было движением души, а не механическим конструированием. Он пробовал себя в разных жанрах инструментальной, театральной музыки. По заказу Дягилева, сделанному еще в 1914 году в Лондоне, некогда были написаны балеты «Ала и Лоллий», «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего». В Париже отношения с Сергеем Павловичем возобновились, и был создан балет «Стальной скок» (о строительстве новой жизни в СССР). Постановка состоялась в Париже, затем в Лондоне.
Как блестящий пианист и опытный дирижер Прокофьев имел большой успех в Европе, Японии, США, Канаде, на Кубе. О его игре писали: «Пианист-титан», «Вулканическое извержение за клавиатурой», «Карнавал какофонии», «Атака мамонтов на азиатском плато».
Заголовки газет могут показаться двусмысленными, но публика была заворожена. За границей Прокофьев встречался с Равелем, Рахманиновым, Стравинским, Дягилевым, Чарли Чаплином. В 1922 году он решил поселиться в Париже, который был тогда центром авангарда. Как человек любознательный, пытливый, любящий эксперименты, он с удовольствием погрузился в художественную атмосферу зарубежья. При этом Прокофьев, в отличие от многих, не был тем, кто пытался отличиться, делая эксперименты ради экспериментов, у него новаторство шло изнутри, это было движением души, а не механическим конструированием. Он пробовал себя в разных жанрах инструментальной, театральной музыки. По заказу Дягилева, сделанному еще в 1914 году в Лондоне, некогда были написаны балеты «Ала и Лоллий», «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего». В Париже отношения с Сергеем Павловичем возобновились, и был создан балет «Стальной скок» (о строительстве новой жизни в СССР). Постановка состоялась в Париже, затем в Лондоне.
«Он приехал в Ленинград показать свою музыку балета “Ромео и Джульетта”. В Москве ему отказали: говорят, на такую музыку спектакль нельзя ставить. В Ленинграде по-другому отнеслись, Лавровский [балетмейстер Кировского театра в Ленинграде Леонид Михайлович Лавровский. — Прим. ред.] согласился. <…>
Я Лавровскому говорила: “Леня, я понимаю эту новую музыку, где происходят драматические вещи, там мне интересно. А вот где лирические — мне мешает Чайковский, он у меня в голове сидит, а как станцевать адажио, как любовь выразить под музыку Прокофьева, я не понимаю”. Он говорит: “Ты пой про себя Чайковского, а делай то, что на эту музыку надо”. Я сказала: “Попробую”. Мне в Прокофьеве не хватало мягкости какой-то, к которой я привыкла в Чайковском. Но это же было впервые — музыка, которая совершенно уводила нас от Шопена, Чайковского».
Я Лавровскому говорила: “Леня, я понимаю эту новую музыку, где происходят драматические вещи, там мне интересно. А вот где лирические — мне мешает Чайковский, он у меня в голове сидит, а как станцевать адажио, как любовь выразить под музыку Прокофьева, я не понимаю”. Он говорит: “Ты пой про себя Чайковского, а делай то, что на эту музыку надо”. Я сказала: “Попробую”. Мне в Прокофьеве не хватало мягкости какой-то, к которой я привыкла в Чайковском. Но это же было впервые — музыка, которая совершенно уводила нас от Шопена, Чайковского».
Г.С. Уланова. Из интервью газете «Труд». № 246. 30 декабря 2009 г.
В целом зарубежный период творчества оказался плодотворным для Прокофьева. Он написал и другие балеты — «Блудный сын», «На Днепре». Оперу, ставшую знаменитой, — «Любовь к трем апельсинам» по сказке писателя XVIII века Карло Гоцци. Особенно популярным стал марш из этой оперы — его переложение для фортепиано по сей день исполняют учащиеся на концертах. Другая опера, «Огненный ангел», была поставлена в Париже только после смерти автора. Одновременно с театральной музыкой Прокофьев сосредоточился и на симфониях, концертах для фортепиано, детских пьесах. Его интересовали разные жанры и сюжеты, общим была уже отмеченная театральность — яркость, зримость, «сценичность» образов или картинок.
Удовлетворив свое любопытство процессами, происходящими за рубежом, и осуществив амбициозные творческие планы, Прокофьев почувствовал, что родная почва ему нужна. В связи с этим он говорил: «Воздух чужбины не возбуждает во мне вдохновения, потому что я русский и нет ничего более вредного для человека, чем жить в ссылке, находиться в духовном климате, не соответствующем его расе».
Удовлетворив свое любопытство процессами, происходящими за рубежом, и осуществив амбициозные творческие планы, Прокофьев почувствовал, что родная почва ему нужна. В связи с этим он говорил: «Воздух чужбины не возбуждает во мне вдохновения, потому что я русский и нет ничего более вредного для человека, чем жить в ссылке, находиться в духовном климате, не соответствующем его расе».
В 1927 и 1929 годах Прокофьев с огромным успехом выступил в Советском Союзе. Его концерты проходили в Ленинграде, Москве, Харькове, Одессе, Киеве. «Прием, который оказала мне Москва, был из ряда вон выходящим», — пишет он в «Автобиографии». Г.Г. Нейгауз вспоминал: «Всем нам памятно, как вся публика, как один человек, встала при первом его появлении на эстраде Большого зала консерватории и приветствовала его стоя, а он кланялся, сгибаясь пополам под прямым углом, точно перочинный ножик». Один из друзей Прокофьева вспоминал его слова: «Я должен вернуться. Я должен снова влиться в атмосферу родной земли… В ушах моих должна звучать русская речь… Здесь я лишаюсь сил». И в 1933 году он возвращается на родину, потому что поверил в свою нужность соотечественникам.
Музыкальная жизнь после революции 1917 года, несмотря на материальные и военные проблемы государства (и эмиграцию некоторых деятелей культуры), продолжала развиваться. Музыкальные учебные заведения, театры были национализированы. Государство ставило своей задачей воспитание слушателей. Большое значение приобрела самодеятельность — в армии, на заводах и фабриках были созданы кружки, студии, клубы. И впоследствии из них вышло немало известных музыкантов. Самодеятельными были в самом начале и Ансамбль песни и пляски Красной армии А.В. Александрова, Русский народный хор М.Е. Пятницкого. Возникает много новых музыкальных коллективов. Одно за другим возникает много новых учебных заведений. С появлением радио пропагандируется музыкальная культура.
А такое явление, как идеологические репрессии, на музыкантах сказывалось в гораздо меньшей степени, чем на представителях других профессий.
Теперь жанры стали делиться на массовые (песни, марши, оперетты для людей без музыкального образования) и академические (для подготовленного слушателя или профессионала). Массовые жанры предполагали простой музыкальный язык. И профессиональные композиторы, работавшие и в массовых, и в академических жанрах, соответственно меняли стилистику, исходя из того, кто будет слушателем. В массовых жанрах стилистика упрощалась, в академических — была более усложненной, нежели в XIX веке. Эту аккордику (которая соответствует не привычной системе мажора или минора, а объединяет две одноименные тональности и называется «мажоро-минор» или «миноро-мажор») изучают уже не в музыкальных школах, а в музыкальных училищах.
Музыкальная жизнь после революции 1917 года, несмотря на материальные и военные проблемы государства (и эмиграцию некоторых деятелей культуры), продолжала развиваться. Музыкальные учебные заведения, театры были национализированы. Государство ставило своей задачей воспитание слушателей. Большое значение приобрела самодеятельность — в армии, на заводах и фабриках были созданы кружки, студии, клубы. И впоследствии из них вышло немало известных музыкантов. Самодеятельными были в самом начале и Ансамбль песни и пляски Красной армии А.В. Александрова, Русский народный хор М.Е. Пятницкого. Возникает много новых музыкальных коллективов. Одно за другим возникает много новых учебных заведений. С появлением радио пропагандируется музыкальная культура.
А такое явление, как идеологические репрессии, на музыкантах сказывалось в гораздо меньшей степени, чем на представителях других профессий.
Теперь жанры стали делиться на массовые (песни, марши, оперетты для людей без музыкального образования) и академические (для подготовленного слушателя или профессионала). Массовые жанры предполагали простой музыкальный язык. И профессиональные композиторы, работавшие и в массовых, и в академических жанрах, соответственно меняли стилистику, исходя из того, кто будет слушателем. В массовых жанрах стилистика упрощалась, в академических — была более усложненной, нежели в XIX веке. Эту аккордику (которая соответствует не привычной системе мажора или минора, а объединяет две одноименные тональности и называется «мажоро-минор» или «миноро-мажор») изучают уже не в музыкальных школах, а в музыкальных училищах.
Так что перед Прокофьевым стояла задача настроить себя на определенную аудиторию, для которой он теперь будет работать. Шостакович работал и в массовых жанрах, создавая простые по содержанию песни, и в академических (в которых его музыка была очень сложной). Прокофьев, апеллируя к широкой аудитории, пытался соединить в своем творчестве демократизм (легко запоминающиеся мелодии) и новаторство (усложненное сопровождение).
И, судя по популярности создаваемых им в СССР произведений, часто ему это удавалось с блеском. Самые знаменитые его сочинения — симфоническая сказка «Петя и Волк» для Центрального детского театра Натальи Сац, балеты «Золушка» и «Ромео и Джульетта», кантата «Александр Невский» (музыка к одноименному фильму Сергея Эйзенштейна, которая в годы войны звучала по-новому — как призыв сражаться с фашизмом).
Самым популярным музыкальным произведением Прокофьева можно назвать «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта», он на слуху у большинства людей и возникает в памяти как первая ассоциация с творчеством великого композитора.
Любимое его сочинение, опера «Война и мир», огромно по объему, он работал над ним в основном в 1940-е годы, и, хотя всю оперу знают, по большому счету, только специалисты, отдельные ее фрагменты у людей на слуху, в частности знаменитая ария Кутузова.
Последним законченным произведением Прокофьева стала Седьмая симфония, написанная в 1952 году. Тяжелая болезнь мешала ему сочинять музыку. В своем доме на Николиной Горе на берегу Москвы-реки композитор проводил большую часть времени. Его навещали друзья — Д.Б. Кабалевский, С.Т. Рихтер, Д.Ф. Ойстрах, М.Л.Растропович и другие. Прокофьев очень любил природу, она была его отдушиной в тягостные моменты жизни. Любимым временем года у него была весна.
Так получилось, что в самом начале весны он и умер — 5 марта 1953 года. В один день с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. В день похорон, когда был оцеплен центр Москвы, возникли проблемы с захоронением композитора. На гражданской панихиде было только несколько человек — все остальные ушли хоронить вождя. Друзья Прокофьева договорились, чтобы гроб с телом великого композитора вынесли из Камергерского проезда для захоронения на Новодевичьем кладбище.
И, судя по популярности создаваемых им в СССР произведений, часто ему это удавалось с блеском. Самые знаменитые его сочинения — симфоническая сказка «Петя и Волк» для Центрального детского театра Натальи Сац, балеты «Золушка» и «Ромео и Джульетта», кантата «Александр Невский» (музыка к одноименному фильму Сергея Эйзенштейна, которая в годы войны звучала по-новому — как призыв сражаться с фашизмом).
Самым популярным музыкальным произведением Прокофьева можно назвать «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта», он на слуху у большинства людей и возникает в памяти как первая ассоциация с творчеством великого композитора.
Любимое его сочинение, опера «Война и мир», огромно по объему, он работал над ним в основном в 1940-е годы, и, хотя всю оперу знают, по большому счету, только специалисты, отдельные ее фрагменты у людей на слуху, в частности знаменитая ария Кутузова.
Последним законченным произведением Прокофьева стала Седьмая симфония, написанная в 1952 году. Тяжелая болезнь мешала ему сочинять музыку. В своем доме на Николиной Горе на берегу Москвы-реки композитор проводил большую часть времени. Его навещали друзья — Д.Б. Кабалевский, С.Т. Рихтер, Д.Ф. Ойстрах, М.Л.Растропович и другие. Прокофьев очень любил природу, она была его отдушиной в тягостные моменты жизни. Любимым временем года у него была весна.
Так получилось, что в самом начале весны он и умер — 5 марта 1953 года. В один день с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. В день похорон, когда был оцеплен центр Москвы, возникли проблемы с захоронением композитора. На гражданской панихиде было только несколько человек — все остальные ушли хоронить вождя. Друзья Прокофьева договорились, чтобы гроб с телом великого композитора вынесли из Камергерского проезда для захоронения на Новодевичьем кладбище.
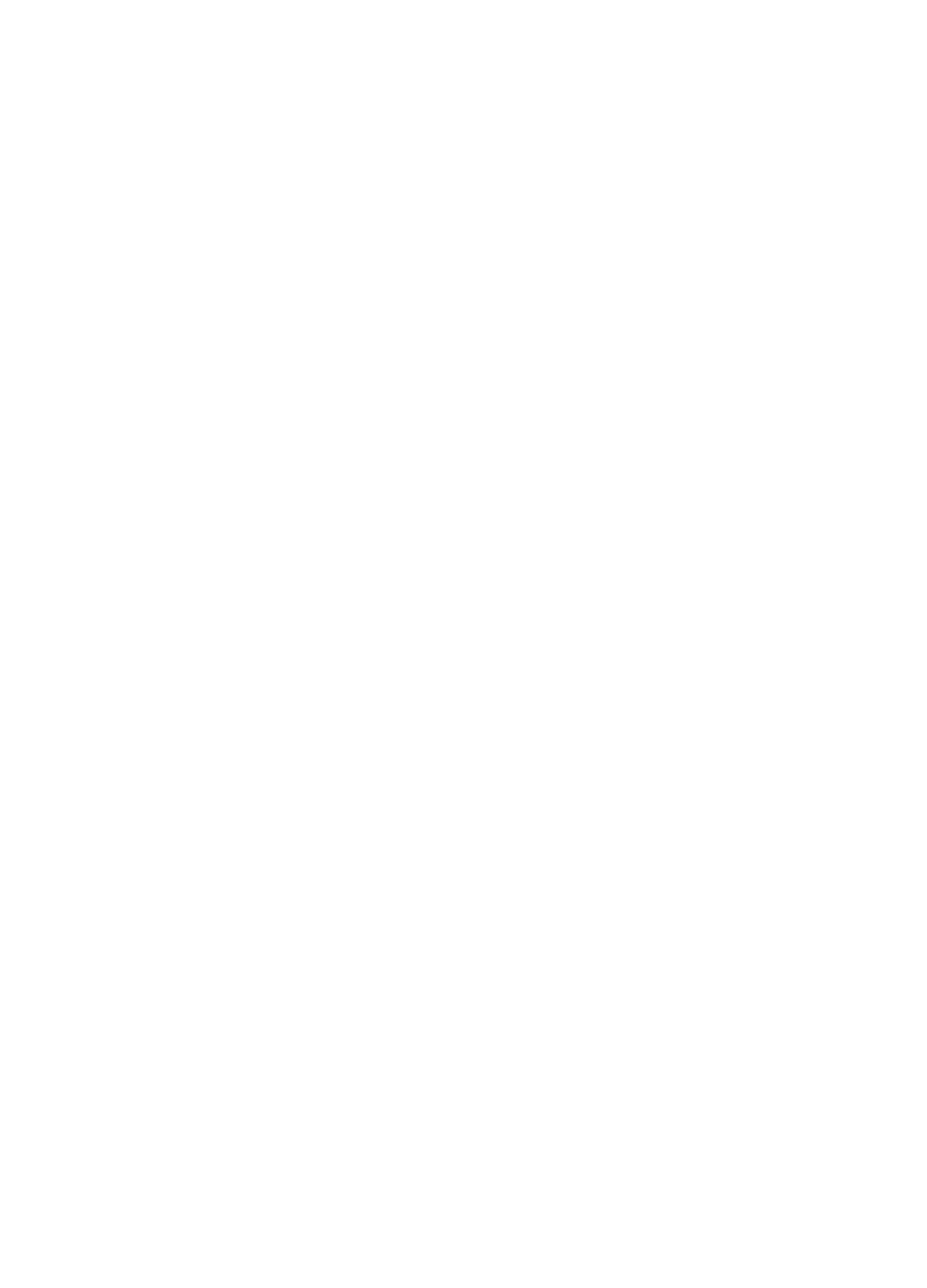
В сердце Лондона
За 15 лет, проведенных в эмиграции, С.С. Прокофьев побывал в столицах многих государств. В Лондоне он написал балеты «Ала и Лоллий» и «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего»