«Маленькая поэтесса с большим бантом»
Ирина Владимировна Одоевцева
(1895–1990)
(1895–1990)
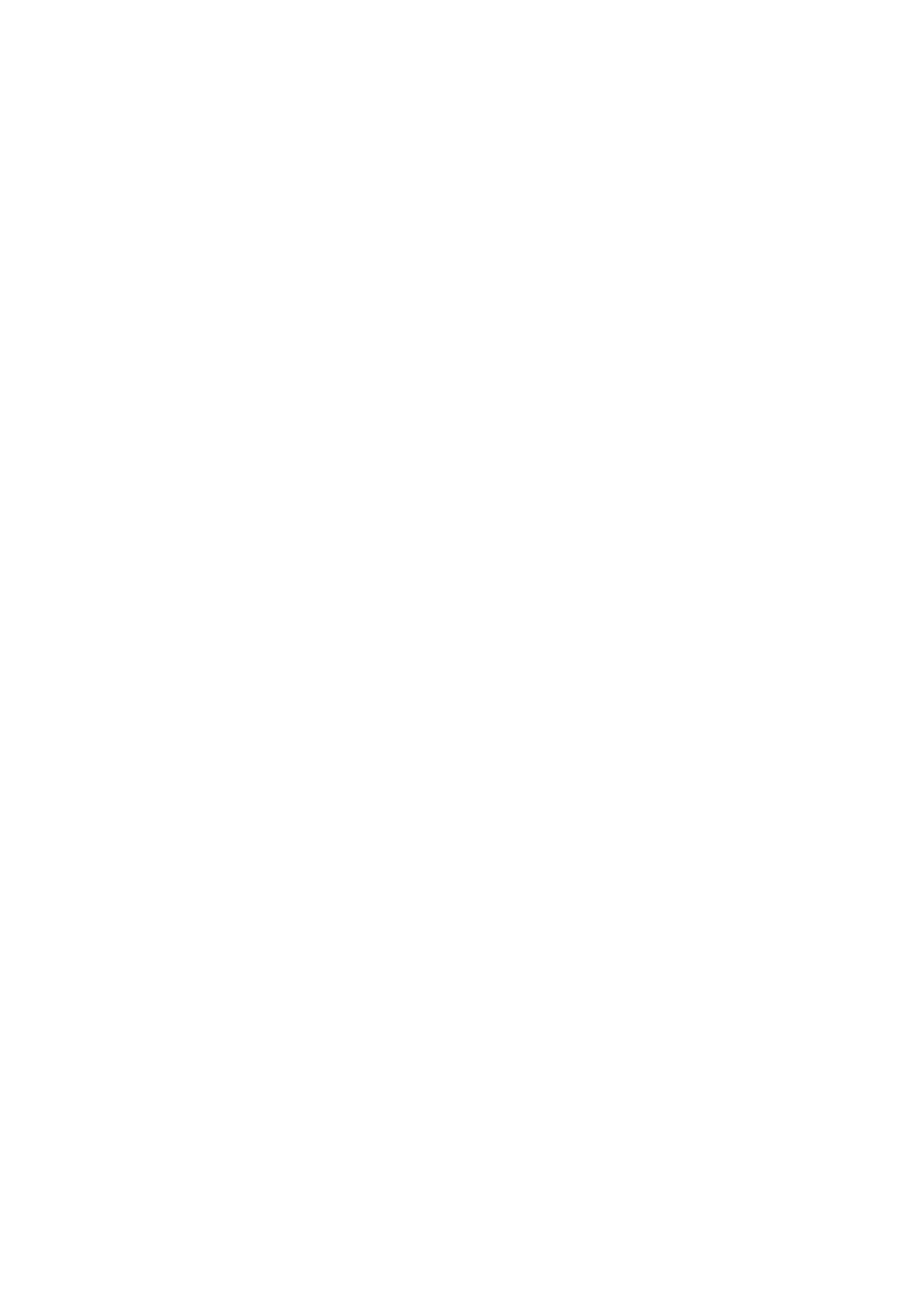
В шуме парижского праздника
В столице Франции И.Д. Одоевцева провела 65 лет. В 1983 году вышли мемуары. «На берегах Сены», где поэтесса рассказала о литературной жизни русского Парижа
В столице Франции И.Д. Одоевцева провела 65 лет. В 1983 году вышли мемуары. «На берегах Сены», где поэтесса рассказала о литературной жизни русского Парижа
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
15 (27) июня 1895 г. — родилась в Риге
1920 г. — чтение «Баллады о толченом стекле» в Доме литераторов в Петрограде
1922 г. — опубликовала первый сборник стихов «Двор чудес»
1922 г. — отъезд в Ригу, начало эмиграции
1928 г. — опубликовала первый роман «Ангел смерти»
1967 г. — опубликовала мемуары «На берегах Невы»
1983 г. — опубликовала мемуары «На берегах Сены»
1987 г. — вернулась в Ленинград
14 октября 1990 г. — скончалась в Ленинграде, похоронена на Волковском кладбище
15 (27) июня 1895 г. — родилась в Риге
1920 г. — чтение «Баллады о толченом стекле» в Доме литераторов в Петрограде
1922 г. — опубликовала первый сборник стихов «Двор чудес»
1922 г. — отъезд в Ригу, начало эмиграции
1928 г. — опубликовала первый роман «Ангел смерти»
1967 г. — опубликовала мемуары «На берегах Невы»
1983 г. — опубликовала мемуары «На берегах Сены»
1987 г. — вернулась в Ленинград
14 октября 1990 г. — скончалась в Ленинграде, похоронена на Волковском кладбище
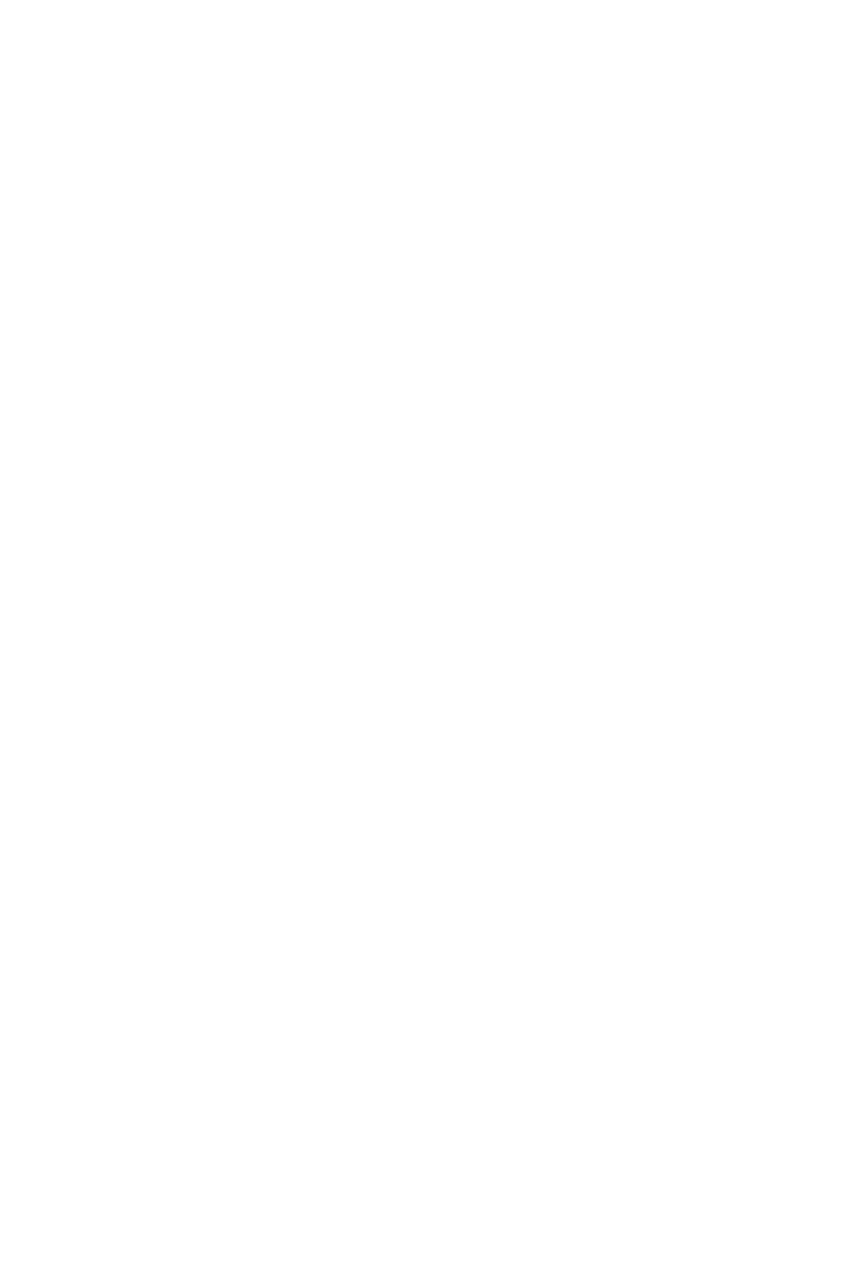
И.В. Одоевцева. Около 1927 г.
Одоевцева начала учиться в Институте живого слова в 1918 году. Вскоре она перешла в литературную студию, где, по ее словам, «было очень серьезно поставлено обучение». Начало литературной деятельности Одоевцевой относят к 1919 году, когда она написала «Балладу о толченом стекле». До этого она писала подражательные баллады в стиле В.А. Жуковского, а также стихотворные переложения английских и французских сказок.
Первым настоящим поэтом, которого она увидела, был Николай Гумилев. Для девушки, с детства мечтавшей стать поэтом, это была невероятная удача.
Удивившись по-женски некрасивости Гумилева — «Как мужчина он был для меня непривлекателен» — Одоевцева была покорена его поэтическим дарованием и авторитетом. Сожгла первую тетрадку с ученическими стихами, которые Гумилев раскритиковал, зато после добилась его предсказания: «Вы скоро будете знаменитой». Одоевцевой он посвятил стихотворение «Лес»:
Первым настоящим поэтом, которого она увидела, был Николай Гумилев. Для девушки, с детства мечтавшей стать поэтом, это была невероятная удача.
Удивившись по-женски некрасивости Гумилева — «Как мужчина он был для меня непривлекателен» — Одоевцева была покорена его поэтическим дарованием и авторитетом. Сожгла первую тетрадку с ученическими стихами, которые Гумилев раскритиковал, зато после добилась его предсказания: «Вы скоро будете знаменитой». Одоевцевой он посвятил стихотворение «Лес»:
Я придумал это, глядя на твои
Косы — кольца огневеющей
змеи.
На твои зеленоватые глаза
Как персидская больная бирюза.
Косы — кольца огневеющей
змеи.
На твои зеленоватые глаза
Как персидская больная бирюза.
Гумилев познакомил ее со всеми выдающимися поэтами-современниками, и лишь Ахматова не приняла Одоевцеву, «бездарность и интриганку» (!), ревниво заметив, что поэт любил по-настоящему только ее.
В 1930 году Ирина Одоевцева стала членом Дома литераторов и Дома искусства, часто встречалась с Кузминым, Сологубом, Белым, Блоком, великим переводчиком Михаилом Лозинским. К.И. Чуковский предложил ей, «маленькой поэтессе с большим бантом», записать «Балладу о толченом стекле» в «Чукоккалу» — своего рода профессиональное признание зеленоглазой красавицы настоящим поэтом. Ведь записать свою вещь в эту тетрадь в черном кожаном переплете получали приглашение только истинные писатели и поэты. За «Толченым стеклом» последовали новые баллады, ставшие известными: «Баллада об извозчике», «Баллада о том, почему испортились водопроводы в Петербурге». Известности способствовало обращение именно к жанру баллады: в 1910–1920-е годы этот жанр не был особенно популярным. Внимание М. Горького привлекла также «Лунная поэма», напечатанная во втором номере журнала «Дом искусства».
В 1930 году Ирина Одоевцева стала членом Дома литераторов и Дома искусства, часто встречалась с Кузминым, Сологубом, Белым, Блоком, великим переводчиком Михаилом Лозинским. К.И. Чуковский предложил ей, «маленькой поэтессе с большим бантом», записать «Балладу о толченом стекле» в «Чукоккалу» — своего рода профессиональное признание зеленоглазой красавицы настоящим поэтом. Ведь записать свою вещь в эту тетрадь в черном кожаном переплете получали приглашение только истинные писатели и поэты. За «Толченым стеклом» последовали новые баллады, ставшие известными: «Баллада об извозчике», «Баллада о том, почему испортились водопроводы в Петербурге». Известности способствовало обращение именно к жанру баллады: в 1910–1920-е годы этот жанр не был особенно популярным. Внимание М. Горького привлекла также «Лунная поэма», напечатанная во втором номере журнала «Дом искусства».
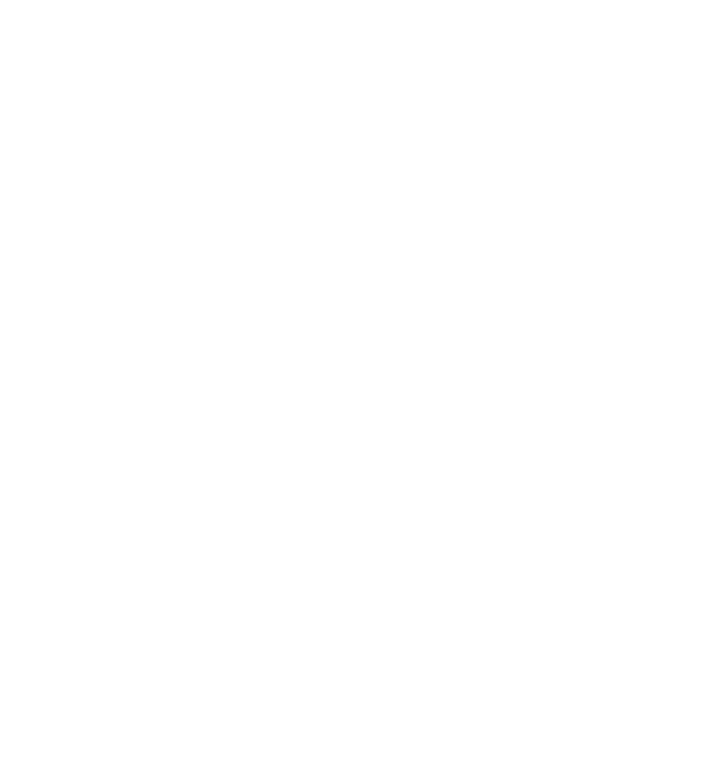
Участники литературной группы поэтов «Звучащая раковина». Сидит в центре: Н.С. Гумилев; в первом ряду на полу сидят: Г.В. Иванов, И.В. Одоевцева. Петроград. Около 1921 г.
Одоевцева посвятила первому мужу Сергею Алексеевичу Попову, кстати, своему кузену, с которым развелась в 1921 году, первую книгу стихов «Двор чудес». В том же году в Петрограде Ирина вышла замуж за поэта Георгия Иванова. Она была урожденной Ираидой Густавовной Гейнике, дочерью известного и успешного рижского адвоката Густава Трауготовича Гейнике, взявшей литературный псевдоним Ирина Владимировна Одоевцева. Отец ее был вполне состоятельным человеком, до революции владел доходными домами, души не чаял в дочери. В 1922 году Одоевцева с мужем уехали в Ригу к отцу Ирины в полной уверенности, что скоро вернутся в Петроград, но Иванов нашел последнее упокоение на чужбине, а Одоевцевой понадобилось для возвращения 65 лет.
Из Риги в 1922 году супруги уехали в Берлин, где Одоевцева вела беззаботную светскую жизнь. Вот какой она запомнилась поэту-эмигранту Игорю Чиннову: «…поэтесса, любившая носить в руках цветы, походила на женщин “ар нуво”, “югендстиля”: овальное лицо в копне ниспадающих волос и какое-то впечатление водяных лилий и водорослей. А в эпоху “ар деко” мы видим ее с прической средневекового пажа, “буби-копф”, в шляпке без полей, с лицом “бледным и порочным”, танцующей канкан или чарльстон в стиле Марлен Дитрих…»
Лишь в эмиграции в Берлине Ирина выполнила просьбу-признание Гумилева написать о нем балладу.
Из Риги в 1922 году супруги уехали в Берлин, где Одоевцева вела беззаботную светскую жизнь. Вот какой она запомнилась поэту-эмигранту Игорю Чиннову: «…поэтесса, любившая носить в руках цветы, походила на женщин “ар нуво”, “югендстиля”: овальное лицо в копне ниспадающих волос и какое-то впечатление водяных лилий и водорослей. А в эпоху “ар деко” мы видим ее с прической средневекового пажа, “буби-копф”, в шляпке без полей, с лицом “бледным и порочным”, танцующей канкан или чарльстон в стиле Марлен Дитрих…»
Лишь в эмиграции в Берлине Ирина выполнила просьбу-признание Гумилева написать о нем балладу.
Потом поставили к стенке
И расстреляли его.
И нет на его могиле
Ни креста, ни холма — ничего.
Но любимые им серафимы
За его прилетели душой.
И звезды в небе пели: —
«Слава тебе, герой!»
И расстреляли его.
И нет на его могиле
Ни креста, ни холма — ничего.
Но любимые им серафимы
За его прилетели душой.
И звезды в небе пели: —
«Слава тебе, герой!»
По словам Н.И. Ульянова, поэтесса утверждала, что эту ее балладу знали наизусть даже узники Соловецкого лагеря.
«…Жизненная правда, во всяком случае, ее страницам присуща, и так об этой правде рассказывает она, таким тоном, так хорошо и просто…»
Ю.И. Айхенвальд
Вскоре Одоевцева и Иванов уехали в Париж — «подлинную столицу русской литературы». Когда-то в Риге она гордо заявила издателю газеты «Сегодня» Мильруду: «Я — поэт Ирина Одоевцева, и рассказов не пишу!» Конечно, автор семи стихотворных сборников, она имела право на такой ответ. Вот только в Париже с высокомерием поэта пришлось расстаться. С 1926 года Одоевцева забросила стихи и начала писать рассказы, в центре которых — непременно события, фабулы. Их легко пересказать, нетрудно вспомнить: «Падучая звезда», «Жасминовый остров», «Дом на песке», «Сердце Марии» — часто названия рассказов говорят сами за себя, выдавая мелодраматическую сущность. Она печаталась во многих изданиях: журналы «Звено» и «Числа», различные газеты, в частности «Последние новости», «Сегодня», «Иллюстрированная Россия». Конечно, были и легкомысленные отзывы, например, вполне характерен бунинский: «Говорят, она прелесть какая хорошенькая…»
Центр литературной столицы был в квартире Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского на Колоннель Боне. Каждое воскресенье с четырех до семи здесь проходили знаменитые журфиксы, которые со временем стали заседаниями общества «Зеленая лампа». Правда, для заседаний квартира не подходила: раз в месяц собирались в арендованном зале, и длилось это с 1927 по 1939 год. Впрочем, Одоевцева сама никогда не выступала, а почетное место в президиуме собрания обычно отводилось ее мужу, Георгию Иванову, которого после публикации сборника «Розы» провозгласили лучшим поэтом эмиграции.
Когда в 1932 году умер отец Одоевцевой, на полученное наследство она купила дом в Биаррице, но и этот дом не мог надолго оторвать от «Зеленой лампы». Ей были необходимы писательская атмосфера, изысканные парижские рестораны, взгляды поклонников и даже завистливые взоры писательниц и поэтесс. Первый же роман «Ангел смерти» (1928) оказался успешным, его сразу перевели на несколько языков. Тема взросления девочки, прощания с детством была популярной в русской литературе первой половины ХХ века. Главной героине Люке во сне является «ангел смерти», о котором она читала у Лермонтова. Открытие героиней физиологии своего тела напоминает «Детство Люверс» Б.Л. Пастернака, а переживания после кончины матери — «Детство» Л.Н. Толстого. В общем, это настоящая проза, написанная поэтом, с многочисленными реминисценциями, метафоричностью, ритмичным синтаксисом. В том же ключе написан и второй роман «Изольда», удостоенный язвительных замечаний В. Набокова. Здесь также в центре повествования девочка-подросток, но читает она не Лермонтова, в отличие от Люки, а «Бесов» Ф.В. Достоевского. Удивительно, что в эпоху утвердившегося фрейдизма писательский интерес к полу и телу подростка оказался шокирующим для критиков. Хотя М.Л. Слоним и говорил, что прозе Одоевцевой не удается удержаться на границе, разделяющей «просто литературу» и бульварную литературу, все же очевидно, что Одоевцева была в какой-то мере новатором: взгляд женщины-писательницы на девочку-подростка оказался свежим и неожиданным.
Когда в 1932 году умер отец Одоевцевой, на полученное наследство она купила дом в Биаррице, но и этот дом не мог надолго оторвать от «Зеленой лампы». Ей были необходимы писательская атмосфера, изысканные парижские рестораны, взгляды поклонников и даже завистливые взоры писательниц и поэтесс. Первый же роман «Ангел смерти» (1928) оказался успешным, его сразу перевели на несколько языков. Тема взросления девочки, прощания с детством была популярной в русской литературе первой половины ХХ века. Главной героине Люке во сне является «ангел смерти», о котором она читала у Лермонтова. Открытие героиней физиологии своего тела напоминает «Детство Люверс» Б.Л. Пастернака, а переживания после кончины матери — «Детство» Л.Н. Толстого. В общем, это настоящая проза, написанная поэтом, с многочисленными реминисценциями, метафоричностью, ритмичным синтаксисом. В том же ключе написан и второй роман «Изольда», удостоенный язвительных замечаний В. Набокова. Здесь также в центре повествования девочка-подросток, но читает она не Лермонтова, в отличие от Люки, а «Бесов» Ф.В. Достоевского. Удивительно, что в эпоху утвердившегося фрейдизма писательский интерес к полу и телу подростка оказался шокирующим для критиков. Хотя М.Л. Слоним и говорил, что прозе Одоевцевой не удается удержаться на границе, разделяющей «просто литературу» и бульварную литературу, все же очевидно, что Одоевцева была в какой-то мере новатором: взгляд женщины-писательницы на девочку-подростка оказался свежим и неожиданным.
«Если бы это стало обычаем, Ирина Одоевцева могла быть увенчана по заслугам. Она кратка. Ее роман быстр. Он идет бесшумно. Его груз не отяжелен… Нигде нет словесной безмерности. В своих разговорах герои молниеносно перекликаются, быстро понимают друг друга, их слушаешь без утомления. Как хорошо: Ирина Одоевцева любит точку! Редкое пристрастие, трудный путь, ценное качество».
П.М. Пильский. «Затуманившейся мир» (1929 г.)
В 1939 году появился роман «Зеркало», в центре которого была уже знакомая читателям Люка, только повзрослевшая на шесть лет. Изменилась эпоха — теперь это эпоха кинематографа. Гламур оказывается зримым воплощением эпохи, а резкие зримые образы, короткие описания и четкие диалоги говорят об ориентации Одоевцевой на кинематограф. Возможно, она надеялась, что роман станет сценарием.
После войны Одоевцева написала роман «Оставь надежду навсегда» (1948), где предсказала реакцию советских людей на смерть Сталина, чем позже гордилась. Последний роман «Год жизни» (1953) повествует о двух сестрах, соперничающих за одного мужчину.
После войны Одоевцева написала роман «Оставь надежду навсегда» (1948), где предсказала реакцию советских людей на смерть Сталина, чем позже гордилась. Последний роман «Год жизни» (1953) повествует о двух сестрах, соперничающих за одного мужчину.
Во время Второй мировой войны Одоевцева с Ивановым выжили, но их парижская квартира была разграблена, дом в Биаррице разбомблен. Единственным источником дохода стал американский «Новый журнал», который возглавлял Роман Гуль. Одоевцева с мужем брались за любую журнальную работу. Когда-то законодательница мод в парижской эмиграции, теперь Одоевцева ждала посылок с поношенными вещами из Америки. К счастью, Гуль и его супруга были добры, терпеливы и заботливы. Выехать в США, подобно многим спасавшимся от нацистов писателям, Ирине с мужем оказалось не под силу. Выход оставался один — переселиться в дом престарелых в городе Йер. Вот только жаркий климат Иванов переживал очень тяжело, часто болел, и в 1958 году его не стало.
Через много лет Одоевцева напишет: «Если бы меня спросили, кого из встреченных в моей жизни людей я считаю самым замечательным, мне было бы трудно ответить — слишком их было много. Но я твердо знаю, что Георгий Иванов был одним из самых замечательных из них». Его памяти она посвятила пронзительные стихи:
Через много лет Одоевцева напишет: «Если бы меня спросили, кого из встреченных в моей жизни людей я считаю самым замечательным, мне было бы трудно ответить — слишком их было много. Но я твердо знаю, что Георгий Иванов был одним из самых замечательных из них». Его памяти она посвятила пронзительные стихи:
Скользит слеза из-под
усталых век,
Звенят монеты на церковном
блюде.
О чем бы ни молился человек,
Он непременно молится о чуде:
Чтоб дважды два вдруг
оказалось пять
И розами вдруг расцвела солома,
Чтобы к себе домой прийти
опять,
Хотя и нет ни «у себя», ни
дома.
Чтоб из-под холмика
с могильною травой
Ты вышел вдруг, веселый
и живой.
усталых век,
Звенят монеты на церковном
блюде.
О чем бы ни молился человек,
Он непременно молится о чуде:
Чтоб дважды два вдруг
оказалось пять
И розами вдруг расцвела солома,
Чтобы к себе домой прийти
опять,
Хотя и нет ни «у себя», ни
дома.
Чтоб из-под холмика
с могильною травой
Ты вышел вдруг, веселый
и живой.
Похоронив мужа, Одоевцева перебралась в другой дом престарелых, который находился в Ганьи, пригороде Парижа. Там по настоянию друга, поэта Юрия Терапиано она написала и в 1967 году издала первую книгу своих мемуаров «На берегах Невы». В фокусе ее воспоминаний оказался Н.С. Гумилев. Она описывает лишь четыре года петроградской культурной жизни, но в них втиснуто так много событий, дано так много портретов, что трудно поверить в невероятную насыщенность времени. Это были годы, когда еще недавно состоятельные и благополучные люди научились не обращать внимания на голод, а жить одним лишь искусством. Осип Мандельштам и Андрей Белый, Кузмин и Пяст, Ремизов и Ахматова проходят перед глазами читателя. Среди восторженных эмигрантских рецензий выделяется отзыв З.А. Шаховской, по словам которой Одоевцева всех поэтов, повстречавшихся ей, «осветила светом не покинувшей ее молодости, оживила их памятью своего не стареющего сердца — ни с жизнью, ни с людьми не сводя личных счетов».
В Ганьи Одоевцева встретила своего третьего мужа. Им стал бывший царский офицер писатель Яков Горбов. Как многие эмигранты, он работал в Париже таксистом. Во время войны Горбов пошел добровольцем во французскую армию. Ему не повезло, он был тяжело ранен и попал в плен. Одоевцева рассказывала, что жизнь ему спасла ее книга — роман «Изольда». Горбов всегда носил ее на груди под гимнастеркой. Попавшая в книгу пуля смогла лишь ранить его, но не смертельно. Горбов пронес восхищение Одоевцевой через всю жизнь, но прожить вместе им было суждено лишь три года. В 1981 году он скончался.
В Ганьи Одоевцева встретила своего третьего мужа. Им стал бывший царский офицер писатель Яков Горбов. Как многие эмигранты, он работал в Париже таксистом. Во время войны Горбов пошел добровольцем во французскую армию. Ему не повезло, он был тяжело ранен и попал в плен. Одоевцева рассказывала, что жизнь ему спасла ее книга — роман «Изольда». Горбов всегда носил ее на груди под гимнастеркой. Попавшая в книгу пуля смогла лишь ранить его, но не смертельно. Горбов пронес восхищение Одоевцевой через всю жизнь, но прожить вместе им было суждено лишь три года. В 1981 году он скончался.
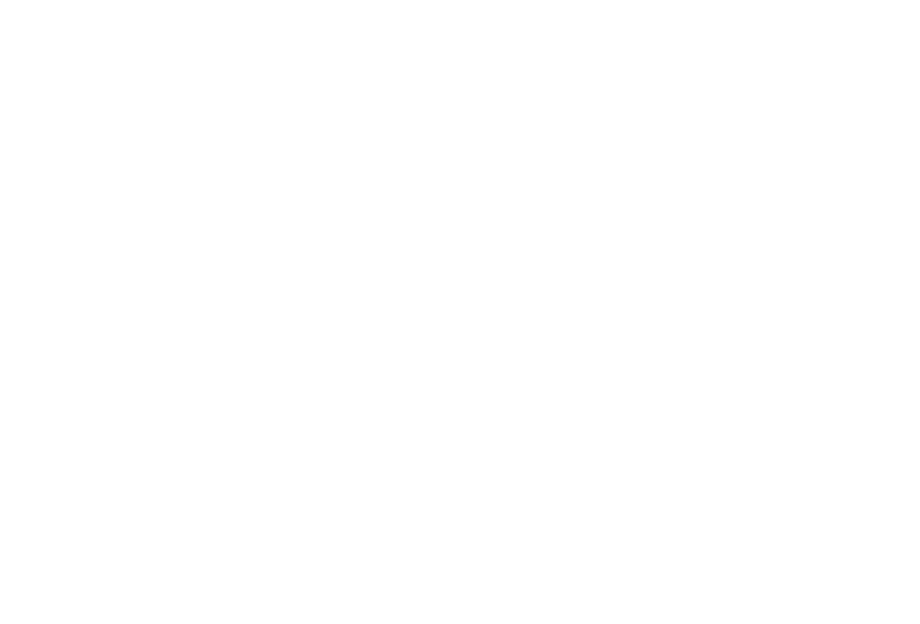
И.В. Одоевцева. 1987 г.
В 1983 году в Париже вышла вторая часть мемуаров «На берегах Сены», посвященная Ю.К. Терапиано. Одоевцева многое помнила, а когда вспомнить не могла, на помощь приходило писательское воображение. Эмиграция эти мемуары заметила, но многое вспомнила иначе. В центре книги — воспоминания о И.А. Бунине, которому посвящена треть текста. «Эмигрантским златоустом» Одоевцева называет выдающегося критика Г.В. Адамовича. С особенной болью пишет она о Д.С. Мережковском, который вместе с З.Н. Гиппиус воспитывал на вечерах «Зеленой лампы» «ряд молодых поэтов, научив их не только думать, но и ясно высказывать свои мысли». Этот же Мережковский по радио произнес речь, в которой превозносил Гитлера, которого сам же в домашнем кругу называл «маляром, воняющим ножным потом». Эту готовность к коллаборационизму Одоевцева объясняла в Мережковском отсутствием моральных ограничений.
В этой книге Одоевцева называет Цветаеву «лучшим стилистом нашего времени — лучше Бунина, Белого, Сологуба, Мандельштама», вспоминает художника и великолепного мемуариста Ю.П. Анненкова, писателей и поэтов Зайцева, Тэффи, Есенина, Северянина, Бальмонта.
Политика гласности, проводившаяся новым советским руководством с середины 1980-х годов, открыла многим русским писателям возможность вернуться в страну. Усилиями прежде всего журналистов Анны Колоницкой и Александра Сабова об Одоевцевой, прикованной к постели после неудачных операций на шейке бедра, вспомнили на Родине. Наконец, в апреле 1987 года 92-летняя писательница прилетела в Ленинград. В России обе книги ее мемуаров были изданы тиражами, о которых мало кто из эмигрантов первой волны мог мечтать.
Евгений Евтушенко зло написал о ней:
А перечтешь — в глаза
бросается,
что как поэт давно мертва.
Зато в ней выжила красавица,
и, может быть, она права.
После возвращения судьба даровала ей три года жизни на Невском проспекте и настоящую писательскую известность, которой не было прежде.
Политика гласности, проводившаяся новым советским руководством с середины 1980-х годов, открыла многим русским писателям возможность вернуться в страну. Усилиями прежде всего журналистов Анны Колоницкой и Александра Сабова об Одоевцевой, прикованной к постели после неудачных операций на шейке бедра, вспомнили на Родине. Наконец, в апреле 1987 года 92-летняя писательница прилетела в Ленинград. В России обе книги ее мемуаров были изданы тиражами, о которых мало кто из эмигрантов первой волны мог мечтать.
Евгений Евтушенко зло написал о ней:
А перечтешь — в глаза
бросается,
что как поэт давно мертва.
Зато в ней выжила красавица,
и, может быть, она права.
После возвращения судьба даровала ей три года жизни на Невском проспекте и настоящую писательскую известность, которой не было прежде.
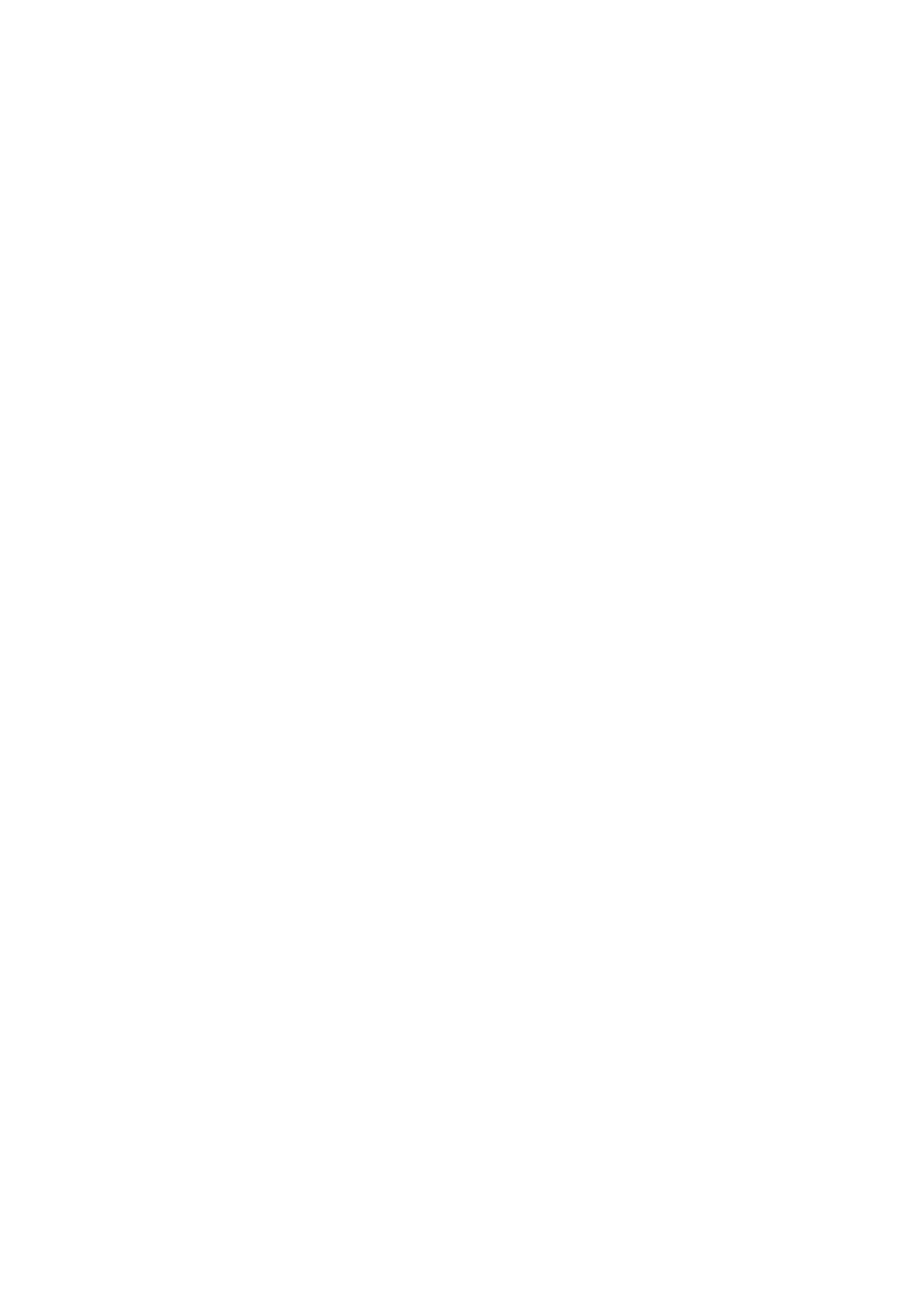
Старая Рига
В 1922 году И.В. Одоевцева вместе с мужем Г.В. Ивановым выехала из Петрограда в Ригу, к своему отцу, не предполагая, что это начало ее длинного эмигрантского пути