Путь матери
Мать Мария
(Елизавета Юрьевна Скобцова)
(1891–1945)
(Елизавета Юрьевна Скобцова)
(1891–1945)
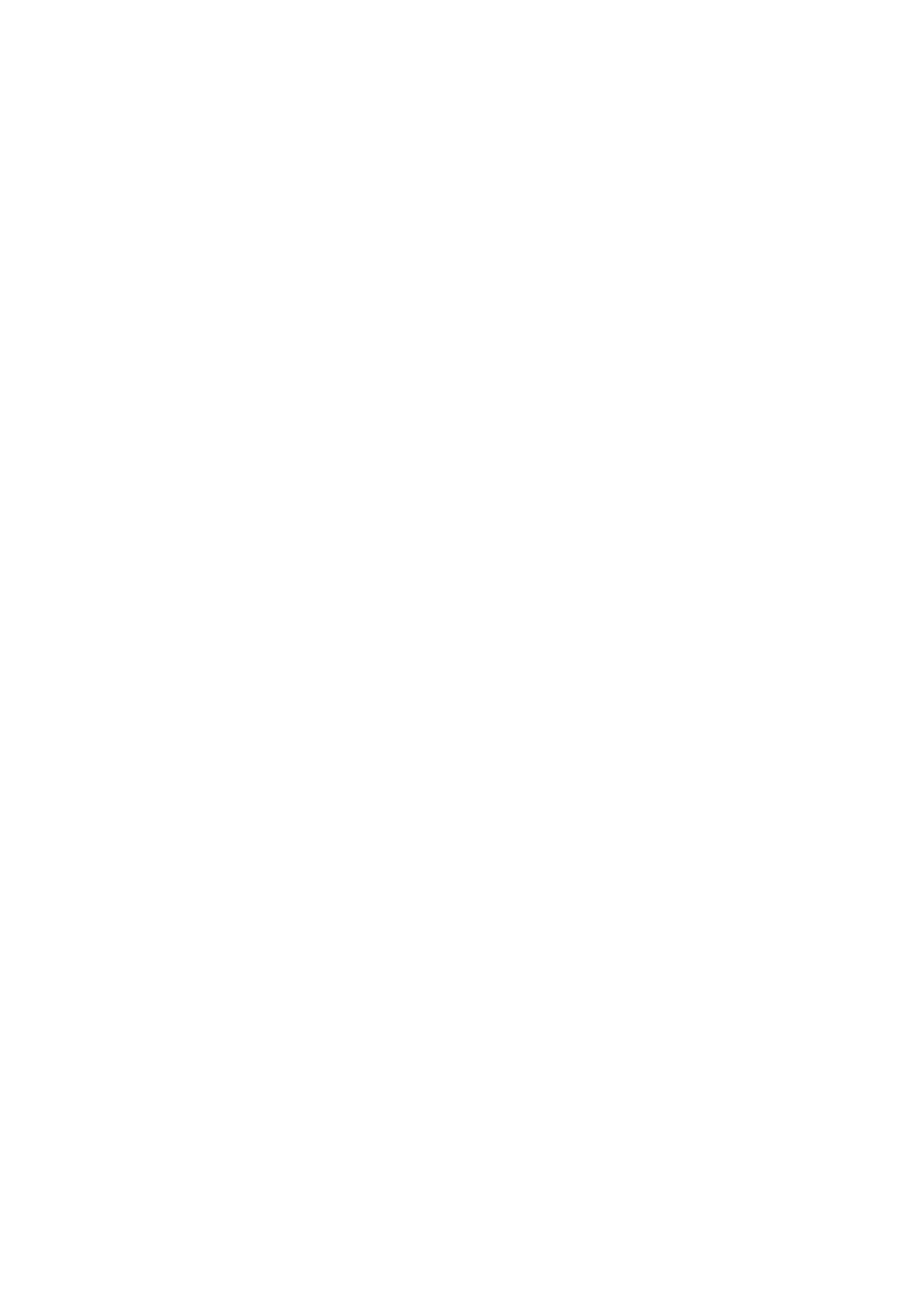
Ходить по водам
«Есть два способа жить. Совершенно законно и почтенно ходить по суше — мерить, взвешивать, предвидеть. Но можно ходить по водам. Тогда нельзя мерить и предвидеть, а надо только все время верить».
«Есть два способа жить. Совершенно законно и почтенно ходить по суше — мерить, взвешивать, предвидеть. Но можно ходить по водам. Тогда нельзя мерить и предвидеть, а надо только все время верить».
Мать Мария
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
8 (20) декабря 1891 г. — родилась в Риге
Февраль 1910 г. — вышла замуж за Д. В. Кузьмина-Караваева
4 (17) февраля 1918 г. — избрана товарищем городского головы Анапы
Осень 1919 г. — вышла замуж за Д.Е. Скобцова
Январь 1924 г. — переезд во Францию
7 марта 1926 г. — смерть дочери Анастасии
16 марта 1932 г. — монашеский постриг
8–9 февраля 1943 г. — арест о. Димитрия Клепинина и матери Марии
31 марта 1945 г. — погибла в газовой камере концлагеря Равенсбрюк
16 января 2004 г. — причислена к лику святых мучеников по определению Священного синода Константинопольского патриархата
8 (20) декабря 1891 г. — родилась в Риге
Февраль 1910 г. — вышла замуж за Д. В. Кузьмина-Караваева
4 (17) февраля 1918 г. — избрана товарищем городского головы Анапы
Осень 1919 г. — вышла замуж за Д.Е. Скобцова
Январь 1924 г. — переезд во Францию
7 марта 1926 г. — смерть дочери Анастасии
16 марта 1932 г. — монашеский постриг
8–9 февраля 1943 г. — арест о. Димитрия Клепинина и матери Марии
31 марта 1945 г. — погибла в газовой камере концлагеря Равенсбрюк
16 января 2004 г. — причислена к лику святых мучеников по определению Священного синода Константинопольского патриархата
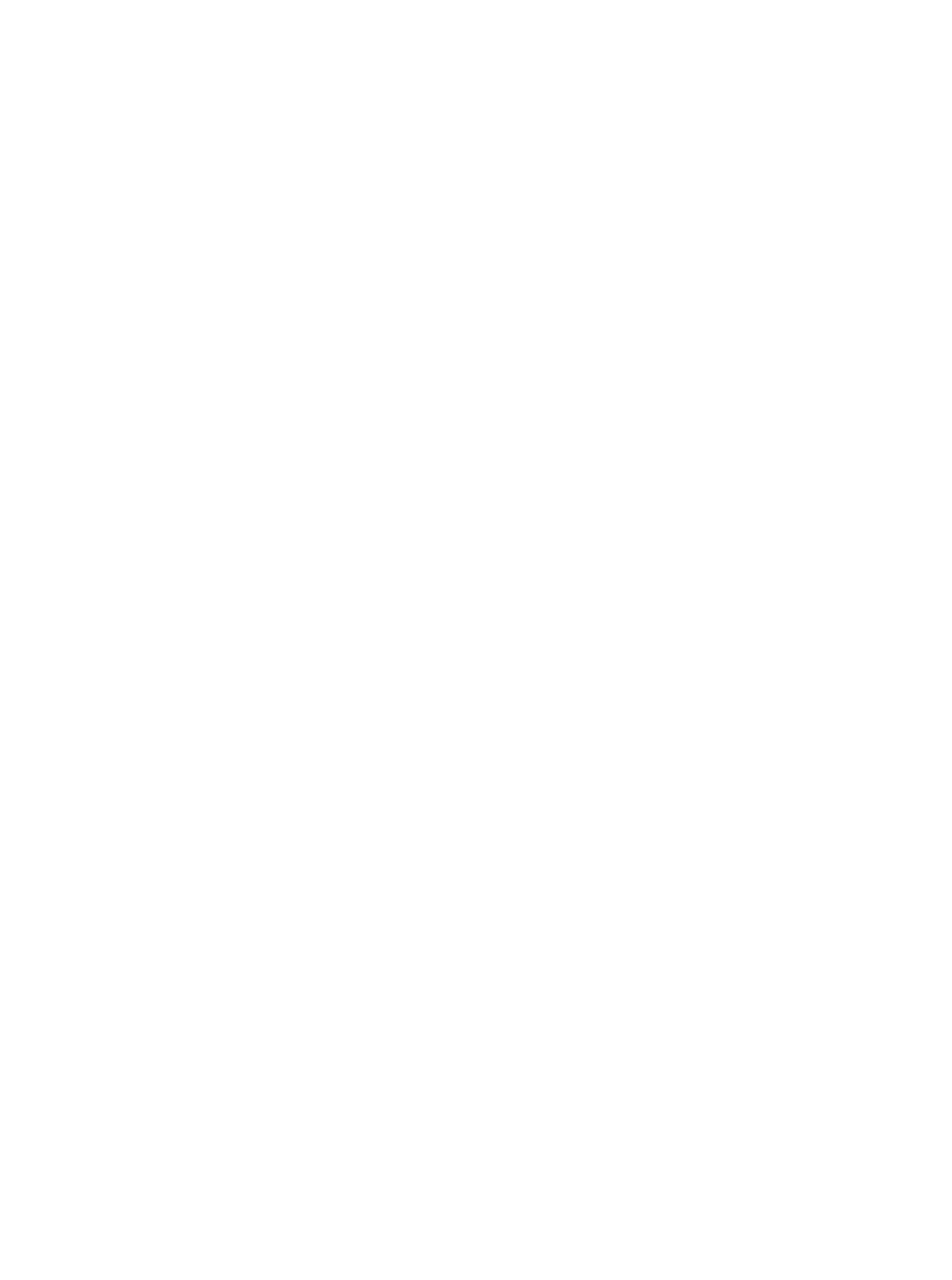
Е.Ю. Скобцова. Около 1920 г.
Жизненный путь Елизаветы Юрьевны Скобцовой (c 1932 года в монашестве — мать Мария) был петлист и неровен, часто одинок. Даже сегодня можно услышать разные оценки ее взглядов и начинаний. Но неоспоримы ее духовный и человеческий подвиг и ее жизнь, отданная без остатка другим людям. Сама она, считая, что многие годы «душа ее по переулочкам бродила», называла свой путь материнским. Ее материнство было всеобъемлющим и, как говорил митрополит Антоний Сурожский, превосходящим и меру нашего опыта, и меру нашего понимания.
Она родилась 8 (20) декабря 1891 года в Риге в родовитой и состоятельной семье Юрия Дмитриевича и Софьи Борисовны Пиленко. Ее крестными были дедушка Д.В. Пиленко, казачий генерал и владелец виноградников, и двоюродная бабушка Е.А.Яфимович, фрейлина великой княгини Елены Павловны в царствование Александра II. Детство ее прошло в унаследованном отцом имении Джемете возле Анапы. До 13 лет ее самым близким другом был К.П. Победоносцев, обер-прокурор Священного Синода. Сила их дружбы была такова, что даже революцию 1905 года, которой сочувствовали ее мать и отец, Лиза вначале восприняла как «нечто, направленное против Победоносцева». Однако любовь к народу перевесила, и кумир был низложен. Но этим дело не ограничилось. Летом 1906 года в возрасте 49 лет умер ее отец. Его внезапная смерть поразила ее своей несправедливостью, и она решила: Бога нет.
Она родилась 8 (20) декабря 1891 года в Риге в родовитой и состоятельной семье Юрия Дмитриевича и Софьи Борисовны Пиленко. Ее крестными были дедушка Д.В. Пиленко, казачий генерал и владелец виноградников, и двоюродная бабушка Е.А.Яфимович, фрейлина великой княгини Елены Павловны в царствование Александра II. Детство ее прошло в унаследованном отцом имении Джемете возле Анапы. До 13 лет ее самым близким другом был К.П. Победоносцев, обер-прокурор Священного Синода. Сила их дружбы была такова, что даже революцию 1905 года, которой сочувствовали ее мать и отец, Лиза вначале восприняла как «нечто, направленное против Победоносцева». Однако любовь к народу перевесила, и кумир был низложен. Но этим дело не ограничилось. Летом 1906 года в возрасте 49 лет умер ее отец. Его внезапная смерть поразила ее своей несправедливостью, и она решила: Бога нет.
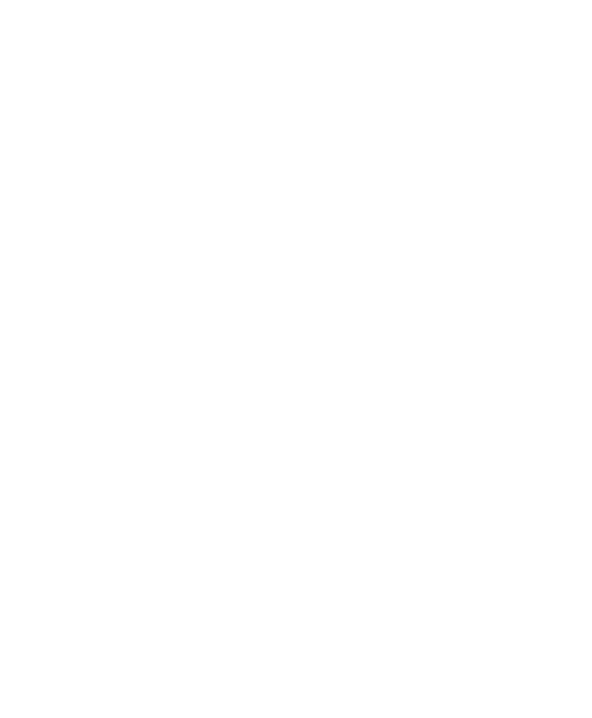
Елизавета Пиленко. Май 1903 г.
Похоронив мужа, Софья Борисовна с детьми (Лизой и младшим Дмитрием) переехала в столицу. Петербург оттолкнул Лизу — «рыжим туманом», промозглостью улиц, но не только. Нелюбовь к городу усугублялась тщетными поисками «настоящих революционеров», вместо которых «встречались какие-то маленькие партийные студенты», рассуждавшие о прибавочной стоимости. А ее душе хотелось подвига или гибели «за всю неправду мира». Ее патетическую тоску взялась развеять двоюродная сестра: она повела Лизу на литературный вечер. Один из выступавших приковал ее внимание, она почувствовала странную сродненность с его стихами. Это был Александр Блок. С присущей ей решимостью и отчаянием она пришла к нему домой, на Галерную, 41. Поэт, выслушав 16-летнюю гимназистку, ответил ей такой же искренностью. Лиза услышала те же сомнения, муки и тоску. В ее жизни снова появились забота и радость, свет и цель.
В 1909 году, окончив с серебряной медалью гимназию, она поступила на историко-филологический факультет Бестужевских курсов. Одновременно она берет уроки живописи, участвует в выставках «Союза молодежи» вместе с К.С. Малевичем, Н.С. Гончаровой, М.Ф. Ларионовым. В 1912 году выходит ее поэтический цикл «Скифские черепки». Книгу приветствовал Гумилев, предугадав в ней большую поэтическую судьбу автора. Ее избирают в «Цех поэтов», она посещает «башню» Вячеслава Иванова. Не прекращались и поиски «настоящих революционеров», и они привели к неожиданному для нее самой шагу: она вышла замуж за «друга поэтов, декадента, социал-демократа» Д.В. Кузьмина-Караваева. Романтика революции их сблизила, но не связала надолго. Брак распался через три года. Весной 1913 года Елизавета сбежала в Анапу. Богемная жизнь закончилась.
В 1909 году, окончив с серебряной медалью гимназию, она поступила на историко-филологический факультет Бестужевских курсов. Одновременно она берет уроки живописи, участвует в выставках «Союза молодежи» вместе с К.С. Малевичем, Н.С. Гончаровой, М.Ф. Ларионовым. В 1912 году выходит ее поэтический цикл «Скифские черепки». Книгу приветствовал Гумилев, предугадав в ней большую поэтическую судьбу автора. Ее избирают в «Цех поэтов», она посещает «башню» Вячеслава Иванова. Не прекращались и поиски «настоящих революционеров», и они привели к неожиданному для нее самой шагу: она вышла замуж за «друга поэтов, декадента, социал-демократа» Д.В. Кузьмина-Караваева. Романтика революции их сблизила, но не связала надолго. Брак распался через три года. Весной 1913 года Елизавета сбежала в Анапу. Богемная жизнь закончилась.
«Мы жили среди огромной страны, словно на необитаемом острове. Россия не знала грамоты — в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура: цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую поэзию своею, знали философию и богословие, поэзию и историю всего мира, в этом смысле мы были гражданами вселенной, хранителями великого культурного музея человечества. Это был Рим времен упадка… Мы были последним актом трагедии — разрыва народа и интеллигенции».
Мать Мария (Скобцова). «Встречи с Блоком» (1936 г.)
В родном имении она усердно занималась хозяйством, купила мельницу, охотилась на уток. В ноябре сообщила А.А. Блоку: «К земле как-то приблизилась; и снова человека полюбила, полюбила по-настоящему. И теперь, месяц тому назад, у меня родилась дочь — ее назвала Гаяна — земная, и я радуюсь ей…» Но в ее душе жило и томящее ожидание катастрофы.
Новые события — война и революция — вовлекают ее в свою орбиту. Движимая евангельской идеей служения ближнему, своеобразно связанной с неонародническим идеалом, Елизавета Юрьевна примкнула к правым эсерам. Самое загадочное событие в эту пору — ее подпольная работа. В апреле 1918 года она оказалась в Москве, где участвовала в съезде эсеров, принявшем решение о восстании против большевиков. После его подавления она осталась на нелегальном положении: изготавливала фальшивые документы, помогала добровольцам пробираться через линию фронта к белым и, по косвенным свидетельствам, готовила покушение на Троцкого.
Новые события — война и революция — вовлекают ее в свою орбиту. Движимая евангельской идеей служения ближнему, своеобразно связанной с неонародническим идеалом, Елизавета Юрьевна примкнула к правым эсерам. Самое загадочное событие в эту пору — ее подпольная работа. В апреле 1918 года она оказалась в Москве, где участвовала в съезде эсеров, принявшем решение о восстании против большевиков. После его подавления она осталась на нелегальном положении: изготавливала фальшивые документы, помогала добровольцам пробираться через линию фронта к белым и, по косвенным свидетельствам, готовила покушение на Троцкого.
«Устав за полгода шатания по всей России, полгода риска и конспирации», Елизавета Юрьевна вернулась в Анапу, мечтая о тихом гнезде. Но ее вскоре арестовали. В городе, еще в августе занятом генералом В.Л. Покровским, шли расправы. Член партии эсеров, только что вернувшаяся с территории, где хозяйничали красные, для белых была врагом. К тому же при большевиках, с февраля по апрель 1918 года, Елизавета Юрьевна возглавляла городскую управу, и кто-то в отместку настрочил донос. В марте 1919 года суд приговорил Елизавету Юрьевну к условному двухмесячному заключению. Нежданным ее покровителем выступил член кубанского правительства Даниил Ермолаевич Скобцов, вскоре ставший ее мужем.
Гражданская война для Елизаветы Скобцовой закончилась эмиграцией. В Тифлисе в 1920 году у нее родился сын Юрий, в Константинополе в 1923-м — дочь Настя. В начале января 1924 года семейство Скобцовых прибыло в Париж. Даниил Ермолаевич подрабатывал учителем, потом получил права шофера и мог рассчитывать на небольшой постоянный заработок. Елизавета Юрьевна мастерила кукол, расписывала платки, вышивала иконы. Не оставляла она и литературное творчество. Но болезнь и смерть младшей дочери Насти в марте 1926 года радикально меняют ее жизнь. В 1927 году она вступает в Русское студенческое христианское движение (РСХД), где становится разъездным секретарем этой организации. Ее сфера деятельности — французская провинция, куда эмигрантская судьба забросила тысячи русских людей. Ее подопечные — наркоманы, проститутки, сумасшедшие, бездомные. Формально она должна была выступать с лекциями и беседами. Но вместо докладов мыла полы, утешала, спасала от петли, помогала выжить. Каждая поездка и встреча с русскими эмигрантами убеждали: разговорами им не помочь. Нужно было «отдать всю свою жизнь какому-нибудь пьянице или калеке», говорила она своей подруге Татьяне Манухиной.
Гражданская война для Елизаветы Скобцовой закончилась эмиграцией. В Тифлисе в 1920 году у нее родился сын Юрий, в Константинополе в 1923-м — дочь Настя. В начале января 1924 года семейство Скобцовых прибыло в Париж. Даниил Ермолаевич подрабатывал учителем, потом получил права шофера и мог рассчитывать на небольшой постоянный заработок. Елизавета Юрьевна мастерила кукол, расписывала платки, вышивала иконы. Не оставляла она и литературное творчество. Но болезнь и смерть младшей дочери Насти в марте 1926 года радикально меняют ее жизнь. В 1927 году она вступает в Русское студенческое христианское движение (РСХД), где становится разъездным секретарем этой организации. Ее сфера деятельности — французская провинция, куда эмигрантская судьба забросила тысячи русских людей. Ее подопечные — наркоманы, проститутки, сумасшедшие, бездомные. Формально она должна была выступать с лекциями и беседами. Но вместо докладов мыла полы, утешала, спасала от петли, помогала выжить. Каждая поездка и встреча с русскими эмигрантами убеждали: разговорами им не помочь. Нужно было «отдать всю свою жизнь какому-нибудь пьянице или калеке», говорила она своей подруге Татьяне Манухиной.
«Свобода призвала нас юродствовать наперекор не только врагам, но и друзьям, строить церковное дело именно так, как его всего труднее строить. И мы будем юродствовать, потому что мы знаем не только тяжесть этого пути, но и величайшее блаженство чувствовать на своих плечах руку Божью».
Мать Мария (Скобцова). «Эссе» (2018 г.)
Мысль о жизни, в которой всецелая самоотверженность не исключение, а норма, получила новый толчок в марте 1931 года, когда возникла необходимость перезахоронить тело дочери. Согласно французскому законодательству, требовалось личное освидетельствование останков, и Елизавете Юрьевне пришлось пережить вторичное погребение Насти. Следуя за новым гробом, она вдруг с небывалой ясностью поняла, что ее материнство всеобъемлюще: «Я увидела перед собой новую дорогу и новый смысл жизни». Она была готова к последнему обнищанию, к монашеству.
«И вот после некоторого льготного периода пришел ужасный день, пришел приказ: всем “карт роз” выстроиться снаружи. Мать Мария очень взволновалась, но ничего нельзя было сделать, в госпитале было досье о ней как о “непригодной”. Ее увезли вместе с отчаянной компанией — с безногими, безрукими, горбатыми, увезли в Югенд-лагерь».
Из воспоминаний И.Н. Вебстер. «Мать Мария» (1947 г.)
Монашество матери Марии — новое и уникальное явление в Русской Церкви. Оно исходило из чувства небывалой свободы. Эта свобода осознавалась как призвание и возможность удивительного творческого прорыва для Церкви. «Наша миссия показать, что свободная Церковь может творить чудеса. И, если мы принесем в Россию наш новый дух — свободный, творческий, дерзновенный, — наша задача будет выполнена. Иначе мы погибнем бесславно», — эти слова были сказаны матерью Марией в декабре 1932 года на Вилла де Сакс, 9, в особняке, где ее стараниями было устроено первое общежитие для девушек. Остались позади сложный церковный развод с мужем, постриг, совершенный митрополитом Евлогием (Георгиевским) в марте 1932 года. Ожидалось, что она возглавит женское монашество в эмиграции, создаст чинную, мирную обитель. Но ее монашество удивило всех. Ревнителей «традиционного православия» оно раздражало и возмущало. Подмечали, что она неряшливо одевается, курит, неусердно посещает богослужения, нарушает пост, общается с извращенцами. Ее самоотверженности отдавали должное, но не могли понять, зачем ей апостольник. Белоэмигранты считали ее социалисткой и левой, а левые — слишком церковной. Поводов для недовольства действительно было немало. Несомненно, в ее поведении присутствовало юродство. Но была на ней и рука Божья, которую она ощущала всегда. Когда препятствия казались непреодолимыми, она не останавливалась перед ними, но полностью отдавалась на волю Божью. Так было с первым домом, который мать Мария арендовала на улице де Сакс. Перед подписанием договора денег не нашлось, человек, на которого рассчитывали, обманул. Она бросилась к владыке Евлогию, тот выругал ее, порылся в карманах и отдал ей пять тысяч франков. Чудом можно назвать и открытие ею больницы для туберкулезных в Нуази ле Гран, и освобождение русских, попавших в лечебницы для умалишенных, и создание общежитий для семейных. И конечно, известный всему Парижу дом № 77 на улице Лурмель. Денег, как всегда, не находилось, риск разорения был огромный, но мать Мария арендовала огромный дом, планируя вскоре открыть в нем общежитие, столовую на сто человек, православную домовую церковь и зал для лекций. И все это появилось. Сюда же философ Н.А. Бердяев перенес свою Религиозно-философскую академию.
«Она [мать Мария. — Прим. ред.] не признает законов природы, по суткам может не есть, не спать, отрицает болезнь и усталость, любит опасность, не знает страха и ненавидит всяческий комфорт — материальный и духовный».
К.В. Мочульский, писатель, философ.
«Монахиня Мария Скобцова» (1946 г.)
Наконец, в этом доме в 1935 году родилось «Православное дело» — последнее детище матери Марии. О том, что удалось сделать, она подробно написала в журнале «Новый град».
Вторая мировая война внесла свои коррективы во все начинания матери Марии. Одна из самых ярких страниц «Православного дела» связана с организацией помощи узникам лагеря Компьень, где находилось более тысячи русских эмигрантов. В доме на улице Лурмель был организован комитет помощи заключенным, раз в неделю собирали посылки, которые отправлялись в лагерь от имени лурмельской церкви. Важной акцией была помощь евреям, попавшим в ночь с 16 на 17 июля 1942 года в облаву и загнанным на велодром на бульваре Гренель. Туда было согнано 6900 человек, в том числе четыре тысячи детей. Мать Мария и ее помощник Ф. Пьянов немедленно отправились на велодром и в течение нескольких дней общались с заключенными, распределяли собранную провизию. Мать Марию жандармы пропускали из уважения к ее монашеской одежде. Воспользовавшись этим, она вывезла
с территории велодрома в мусорных баках не менее четырех детей. Начиная с 16 июля на улице Лурмель стали искать помощи евреи. Мать Мария доставала документы, переправляла скрывавшихся в более безопасные места, настоятель лурмельской церкви священник Димитрий Клепинин выдавал сотни свидетельств о крещении. В любой момент к ним могло нагрянуть гестапо.
Вторая мировая война внесла свои коррективы во все начинания матери Марии. Одна из самых ярких страниц «Православного дела» связана с организацией помощи узникам лагеря Компьень, где находилось более тысячи русских эмигрантов. В доме на улице Лурмель был организован комитет помощи заключенным, раз в неделю собирали посылки, которые отправлялись в лагерь от имени лурмельской церкви. Важной акцией была помощь евреям, попавшим в ночь с 16 на 17 июля 1942 года в облаву и загнанным на велодром на бульваре Гренель. Туда было согнано 6900 человек, в том числе четыре тысячи детей. Мать Мария и ее помощник Ф. Пьянов немедленно отправились на велодром и в течение нескольких дней общались с заключенными, распределяли собранную провизию. Мать Марию жандармы пропускали из уважения к ее монашеской одежде. Воспользовавшись этим, она вывезла
с территории велодрома в мусорных баках не менее четырех детей. Начиная с 16 июля на улице Лурмель стали искать помощи евреи. Мать Мария доставала документы, переправляла скрывавшихся в более безопасные места, настоятель лурмельской церкви священник Димитрий Клепинин выдавал сотни свидетельств о крещении. В любой момент к ним могло нагрянуть гестапо.
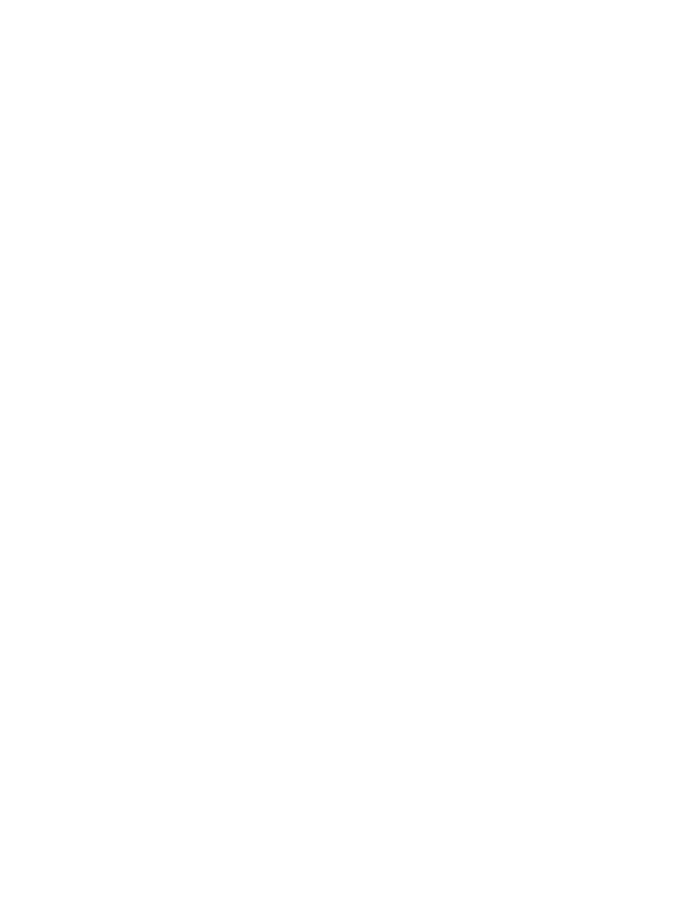
Преподобномученица Мария Парижская. Икона
Это случилось 8 февраля 1943 года. Сначала арестовали сына матери Марии, Юру Скобцова, и отца Димитрия Клепинина, а 9 февраля — явившуюся добровольно в гестапо мать Марию. 27 апреля ее депортировали в женский концлагерь Равенсбрюк. Роковым стало ее согласие перейти в категорию «освобожденных от работы». Ей выдали розовую карточку, и 31 января отправили в новооткрытый так называемый «лагерь отдыха» — Югенд-лагерь. Подозрения ее друзей оправдались. В Югенд-лагере нацистами был отлажен идеальный механизм для обеспечения работой крематориев лагеря. Переклички занимали втрое больше времени, чем обычно, дневной рацион составлял десятую часть буханки в день и половину половника жидкой баланды. С наступлением холодов у заключенных отобрали одеяла, пальто, ботинки и даже чулки. И все же после пяти недель пребывания в лагере смерти она вместе с немногими заключенными вернулась в основной лагерь.
Существуют две версии гибели матери Марии. Согласно первой, во время медицинской селекции среди женщин, отобранных для депортирования в Югенд-лагерь, возникла паника. Мать Мария стала их уверять, что Югенд-лагерь не обязательно означает смерть. Однако ее слова не убеждали. Тогда она сказала им: «Вот доказательство, что я не верю в газовую камеру: я заступлю на место одной из вас». Согласно второй версии, весной 1945 года мать Мария заболела от истощения и была так слаба, что не вставала с койки. Накануне Пасхи, 31 марта, ее вместе с другими больными отправили в Югенд-лагерь, из которого она не вернулась. Она не дожила до освобождения всего один день, когда всех узниц из Франции собрали на главной площади Равенсбрюка и объявили, что они свободны и могут уехать с представителями Красного Креста.
Существуют две версии гибели матери Марии. Согласно первой, во время медицинской селекции среди женщин, отобранных для депортирования в Югенд-лагерь, возникла паника. Мать Мария стала их уверять, что Югенд-лагерь не обязательно означает смерть. Однако ее слова не убеждали. Тогда она сказала им: «Вот доказательство, что я не верю в газовую камеру: я заступлю на место одной из вас». Согласно второй версии, весной 1945 года мать Мария заболела от истощения и была так слаба, что не вставала с койки. Накануне Пасхи, 31 марта, ее вместе с другими больными отправили в Югенд-лагерь, из которого она не вернулась. Она не дожила до освобождения всего один день, когда всех узниц из Франции собрали на главной площади Равенсбрюка и объявили, что они свободны и могут уехать с представителями Красного Креста.
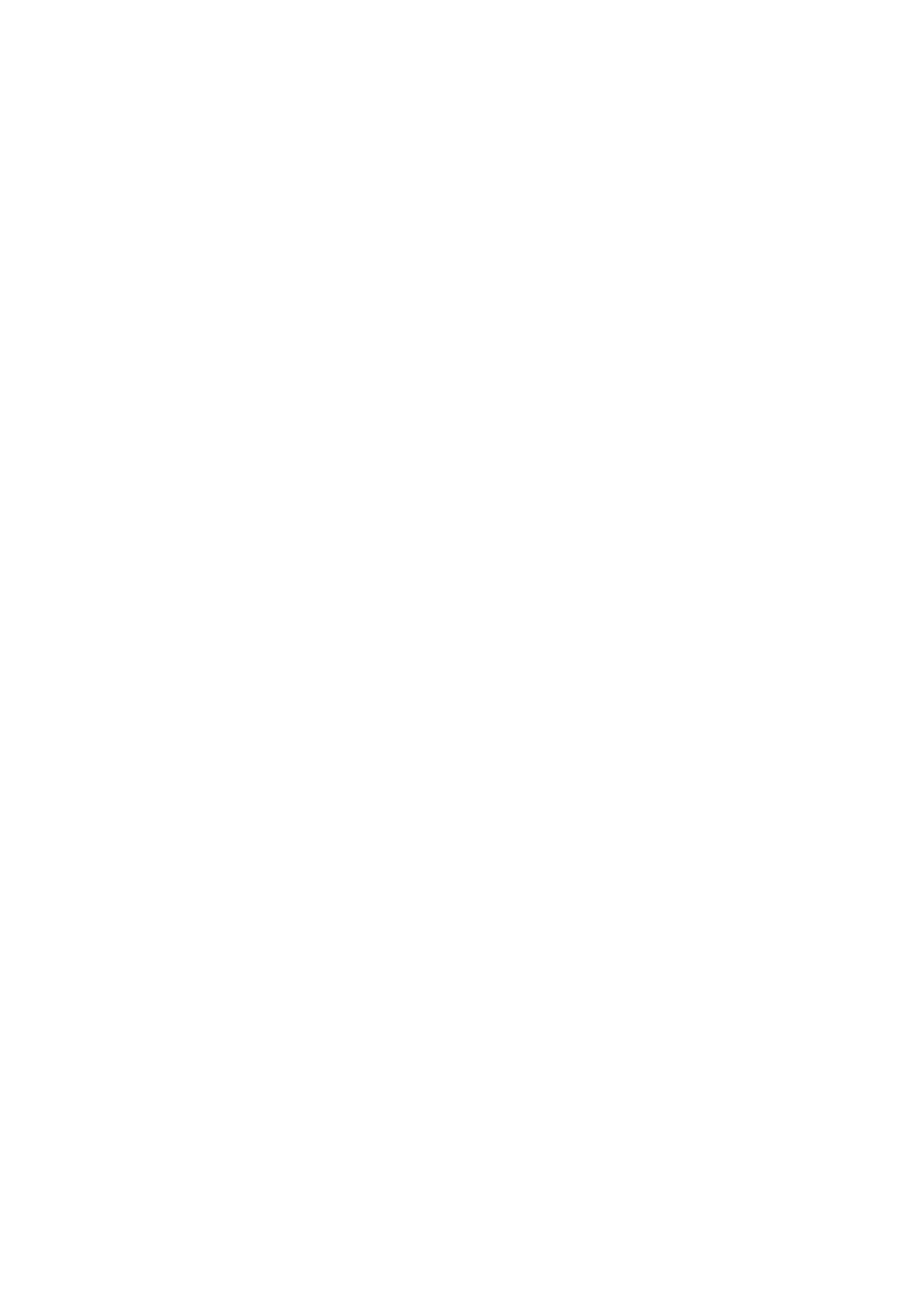
Чудом спасшаяся, чудом спасавшая
Рига. В доме на Элизабетес, 21 появилась на свет Лиза Пиленко. Софья Борисовна вспоминала, что дочь родилась «после серьезной операции, в глубоком обмороке. Через несколько дней, во время крещения, она захлебнулась, и ее приводили к жизни, как утонувшую. Я не знаю никого, более ее подвергавшегося страшным опасностям, и много раз она чудом спасалась от смерти»