Жизнь как в стереокино
Владимир Емельянович Максимов
(1930–1995)
(1930–1995)
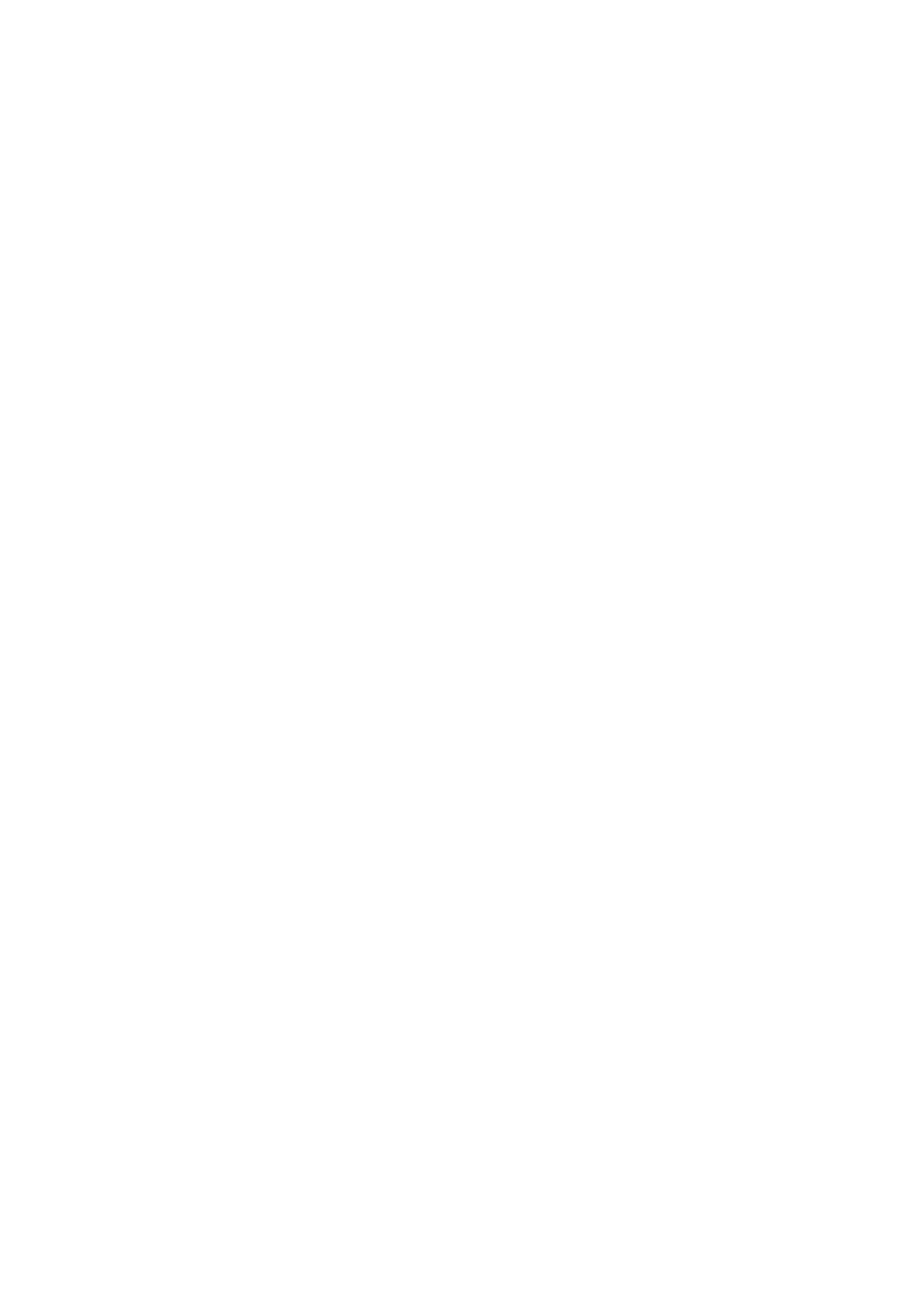
Настоящий континент
В эмиграции В.Е. Максимовым был написан ряд книг, в их числе роман «Заглянуть в бездну» о жизни адмирала А.В. Колчака. Но главным его делом стал журнал «Континент», в редакции которого встречались непохожие люди, завязывались полезные знакомства и крепкая дружба. Так Владимир Максимов сошелся с писателем Виктором Некрасовым. Их многолетняя дружба завершилась болезненным для обоих разрывом. Но когда в 1987 году не стало Некрасова, Максимов был потрясен; в своей надгробной речи он почтил память ушедшего друга
В эмиграции В.Е. Максимовым был написан ряд книг, в их числе роман «Заглянуть в бездну» о жизни адмирала А.В. Колчака. Но главным его делом стал журнал «Континент», в редакции которого встречались непохожие люди, завязывались полезные знакомства и крепкая дружба. Так Владимир Максимов сошелся с писателем Виктором Некрасовым. Их многолетняя дружба завершилась болезненным для обоих разрывом. Но когда в 1987 году не стало Некрасова, Максимов был потрясен; в своей надгробной речи он почтил память ушедшего друга
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
27 ноября 1930 г. — родился в Москве
1962 г. — первая серьезная публикация, повесть «Жив человек»
1971 г. — вышел в издательстве «Посев» роман «Семь дней творения»
1973 г. — публикация романа «Карантин»
1974 г. — выезд в Париж «на год»
1975 г. — лишен гражданства СССР
1976 г. — печать книги «Ковчег для незваных»
1978 г. — начал издавать журнал «Континент»
1986 г. — публикация романа «Заглянуть в бездну»
1990 г. — возвращение гражданства
1992 г. — передача «Континента» в Россию
26 марта 1995 г. — умер в Париже, похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
27 ноября 1930 г. — родился в Москве
1962 г. — первая серьезная публикация, повесть «Жив человек»
1971 г. — вышел в издательстве «Посев» роман «Семь дней творения»
1973 г. — публикация романа «Карантин»
1974 г. — выезд в Париж «на год»
1975 г. — лишен гражданства СССР
1976 г. — печать книги «Ковчег для незваных»
1978 г. — начал издавать журнал «Континент»
1986 г. — публикация романа «Заглянуть в бездну»
1990 г. — возвращение гражданства
1992 г. — передача «Континента» в Россию
26 марта 1995 г. — умер в Париже, похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
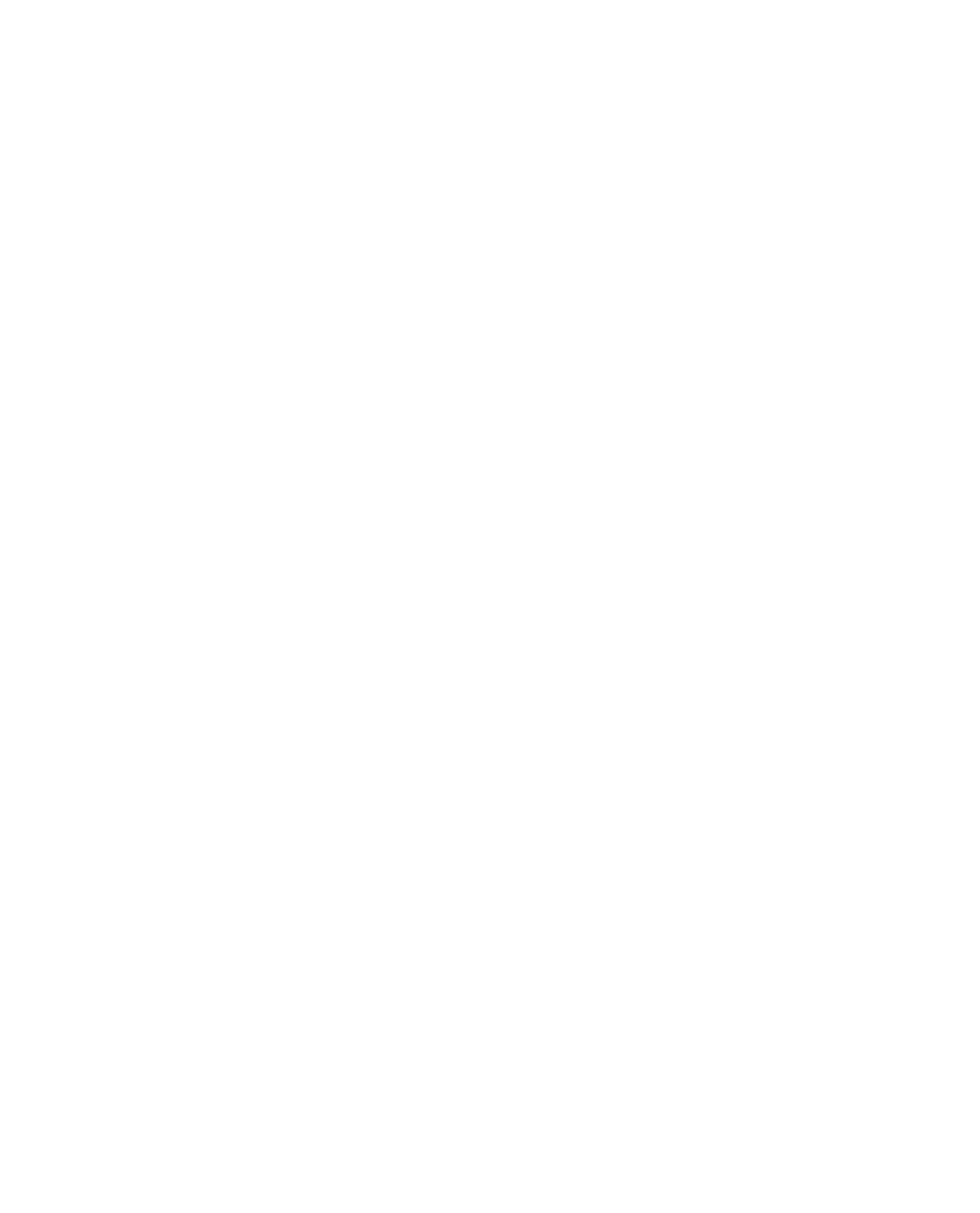
В.Е. Максимов
Писать о Владимире Максимове непросто. При жизни его ставили в один ряд с Солженицыным и Пастернаком, что подчеркивало значимость фигуры и масштабность конфликта с властью. Оно и понятно, его эмиграция, как во многих диссидентских случаях, была вынужденной. Романы и статьи Максимова, написанные в 1970-е годы, не просто не вписывались в понятное для советских литераторов русло, но возмутительно выдавались из него.
Сбивают и сложности, связанные с ранней биографией. Многие события жизни укладываются в канву, так или иначе обозначенную прозой. Герои максимовских книг вспоминают то свое неблагополучное детдомовское детство, то блатную юность (с одной-двумя отсидками в анамнезе) или вовсе тяготятся суровой молодостью, проведенной на советских стройках в глухомани. Это лежащее на поверхности сходство с авторской биографией как бы намекает — Владимир Максимов ничем от своих персонажей не отличается, подумаешь, еще один интеллигент, эмигрант, автодидакт. Но, если присмотреться, сходство с героями мало что проясняет, скорее, путает еще больше.
Почему? Ответ простой. Личность Владимира Ефимовича шире, чем кажется. Даже «литературный, публицистический и религиозный журнал» «Континент», который он создал в Париже в 1974 году, не смог очертить полностью круг его интересов. И это тот «Континент», что считался ведущим изданием третьей волны русской эмиграции! И журнал, и статьи (напечатанные в разное время в разных эмигрантских и русских газетах) наравне с политической деятельностью и писательством были только частью целого.
Но обо всем по порядку. Родился Лев Алексеевич Самсонов (Владимиром Максимовым с последующей выправкой документов он стал уже в детдоме) 27 ноября 1930 года в большой семье тульских крестьян, перебравшихся в столицу. Львом его назвал отец — убежденный троцкист. В 1933-м отца отправили в лагерь, но незадолго до войны освободили, однако уже в 1941 году он сгинул на фронте. Максимов страшно переживал утрату и после 4-го класса бежал из дома, провалившись в бродяжническую жизнь. Если верить одной из его сестер, Екатерине, мальчик поклялся «вернуться домой, ставши знаменитостью, или же никогда не вернуться».
Сбивают и сложности, связанные с ранней биографией. Многие события жизни укладываются в канву, так или иначе обозначенную прозой. Герои максимовских книг вспоминают то свое неблагополучное детдомовское детство, то блатную юность (с одной-двумя отсидками в анамнезе) или вовсе тяготятся суровой молодостью, проведенной на советских стройках в глухомани. Это лежащее на поверхности сходство с авторской биографией как бы намекает — Владимир Максимов ничем от своих персонажей не отличается, подумаешь, еще один интеллигент, эмигрант, автодидакт. Но, если присмотреться, сходство с героями мало что проясняет, скорее, путает еще больше.
Почему? Ответ простой. Личность Владимира Ефимовича шире, чем кажется. Даже «литературный, публицистический и религиозный журнал» «Континент», который он создал в Париже в 1974 году, не смог очертить полностью круг его интересов. И это тот «Континент», что считался ведущим изданием третьей волны русской эмиграции! И журнал, и статьи (напечатанные в разное время в разных эмигрантских и русских газетах) наравне с политической деятельностью и писательством были только частью целого.
Но обо всем по порядку. Родился Лев Алексеевич Самсонов (Владимиром Максимовым с последующей выправкой документов он стал уже в детдоме) 27 ноября 1930 года в большой семье тульских крестьян, перебравшихся в столицу. Львом его назвал отец — убежденный троцкист. В 1933-м отца отправили в лагерь, но незадолго до войны освободили, однако уже в 1941 году он сгинул на фронте. Максимов страшно переживал утрату и после 4-го класса бежал из дома, провалившись в бродяжническую жизнь. Если верить одной из его сестер, Екатерине, мальчик поклялся «вернуться домой, ставши знаменитостью, или же никогда не вернуться».
«5 ноября 1967 года, утром, к нам приехала машина из больницы “Матросская Тишина” и увезла его на профилактические процедуры, как они это называли. Пока он сопротивлялся санитарам, я порвала стихи и сжевала их, так как бывало, что непрошеные гости осматривали бумаги на письменном столе. Уходя, он спросил меня: “Ты запомнила?” Я кивнула. Так эти стихи никто и никогда не прочитал, Володя их не напечатал даже в “Континенте”, он их просто забыл».
Из рассказа журналистки Ирены Лесневской (1996 г.)
Трудно сказать, из скольких детдомов и колоний для малолетних преступников, где подопечных не столько перевоспитывали, сколько колотили и унижали, уходил маленький Володя. В 16 лет добегался до семилетнего уголовного срока, снова пытался воровать, но был пойман, а чуть позже «освобожден по состоянию здоровья». Потом окончил школу ФЗО, получил профессию каменщика. Работал на стройках, в экспедициях в Сибири и на Крайнем Севере (добрался даже до Таймыра, где мыл алмазы). Многие из этих событий легли в основу написанной уже в эмиграции двухчастной «автобиографической повести» «Прощание из ниоткуда» (1972, 1981).
Однако в 1950-х годах ничто не предвещало ни писательского успеха, ни отъезда за границу. После скитаний по стране Максимов обосновался на Кубани, где впервые попробовал себя в журналистике, драматургии, начал писать очерки и вполне коммунистические стихи. «Потому что тогда так было принято», — говорил он позже в видеоинтервью телеканалу «Культура». Но первая поэтическая книга внимания не привлекла. А вот повесть «Мы обживаем землю», напечатанная в «Тарусских страницах» в 1961 году, понравилась читателям. Она вышла свет благодаря Константину Паустовскому, заметившему в юношеской и еще рыхлой прозе о бывшем детдомовце, невольно втянутом в таежную трагедию, и смутных размышлениях про совесть серьезный жизненный опыт и потенциал. А в следующем году в журнале «Октябрь» появилась повесть «Жив человек» о беглом заключенном Сергее Цареве, которого выходили в госпитале после обморожения, вернув не только физическое здоровье, но и веру в людей.
Однако в 1950-х годах ничто не предвещало ни писательского успеха, ни отъезда за границу. После скитаний по стране Максимов обосновался на Кубани, где впервые попробовал себя в журналистике, драматургии, начал писать очерки и вполне коммунистические стихи. «Потому что тогда так было принято», — говорил он позже в видеоинтервью телеканалу «Культура». Но первая поэтическая книга внимания не привлекла. А вот повесть «Мы обживаем землю», напечатанная в «Тарусских страницах» в 1961 году, понравилась читателям. Она вышла свет благодаря Константину Паустовскому, заметившему в юношеской и еще рыхлой прозе о бывшем детдомовце, невольно втянутом в таежную трагедию, и смутных размышлениях про совесть серьезный жизненный опыт и потенциал. А в следующем году в журнале «Октябрь» появилась повесть «Жив человек» о беглом заключенном Сергее Цареве, которого выходили в госпитале после обморожения, вернув не только физическое здоровье, но и веру в людей.
Возвратившегося к тому времени в столицу Максимова пригласили на постоянную работу в «Октябрь», позже он вошел в редколлегию. Однако в эмиграции это сотрудничество ему нередко припоминали. В 1960-е годы редактором «Октября» был писатель и партийный деятель Всеволод Кочетов, тогда же журнал участвовал в открытой полемике с «Новым миром», который возглавлял Александр Твардовский. Речь шла о пути соцреализма, правде жизни и правде в литературе.
Твардовский резко не принял молодого Максимова, считая его «ухудшенным Горьким», человеком, который создал привлекательный образ героя-маргинала, ведь большинство максимовских персонажей — люди трудной судьбы, знакомые и с воровской феней, и с этапными порядками. А Кочетов, наоборот, приветил начинающего автора, описывавшего иной и, чего уж там, малоизвестный жизненный опыт. Уже в эмиграции это многолетнее знакомство (Кочетов и в Москве, и в Париже слыл литературным пронырой) своеобразно воспринимали, особенно сторонники Андрея Синявского, с которым конфликтовал Максимов и весь «Континент» (Синявский разошелся во взглядах с редакцией и с 1978 года начал издавать свой журнал «Синтаксис»). «Кочетовский, как считалось, стиль максимовской публицистики, зачастую окаймленный советскими оборотами речи, доводил наших эмигрантских снобов и блюстителей духа до исступления. Дескать, обратите внимание на этот газетный язык, на нехитрые штампы и гневные отповеди, достойные “Блокнота агитатора”!», — размышлял литератор Виктор Кондырев.
Не давала покоя и советская слава Максимова. «Баллада о Савве» (1964), «Дорога» (1966), «Стань за черту» («Октябрь», 1967, № 2) сделали его по-настоящему известным. В 1963 году он вошел в Союз писателей СССР. В 1964 году даже написал «производственную» пьесу «Позывные твоих параллелей».
Твардовский резко не принял молодого Максимова, считая его «ухудшенным Горьким», человеком, который создал привлекательный образ героя-маргинала, ведь большинство максимовских персонажей — люди трудной судьбы, знакомые и с воровской феней, и с этапными порядками. А Кочетов, наоборот, приветил начинающего автора, описывавшего иной и, чего уж там, малоизвестный жизненный опыт. Уже в эмиграции это многолетнее знакомство (Кочетов и в Москве, и в Париже слыл литературным пронырой) своеобразно воспринимали, особенно сторонники Андрея Синявского, с которым конфликтовал Максимов и весь «Континент» (Синявский разошелся во взглядах с редакцией и с 1978 года начал издавать свой журнал «Синтаксис»). «Кочетовский, как считалось, стиль максимовской публицистики, зачастую окаймленный советскими оборотами речи, доводил наших эмигрантских снобов и блюстителей духа до исступления. Дескать, обратите внимание на этот газетный язык, на нехитрые штампы и гневные отповеди, достойные “Блокнота агитатора”!», — размышлял литератор Виктор Кондырев.
Не давала покоя и советская слава Максимова. «Баллада о Савве» (1964), «Дорога» (1966), «Стань за черту» («Октябрь», 1967, № 2) сделали его по-настоящему известным. В 1963 году он вошел в Союз писателей СССР. В 1964 году даже написал «производственную» пьесу «Позывные твоих параллелей».
«“Континент” только очень условно можно назвать эмигрантским журналом, он всеми корнями — материалами, авторами, читателями и прежде всего темами — в России. То есть не главный эмигрантский журнал, как часто говорят, а главный русский журнал сегодня».
Из письма поэта Л.В. Лосева В.Е. Максимову. 7 января 1984 г.
Однако в это же время в текстах Максимова начало нарастать внутреннее сопротивление не столько советскому (но ему тоже), сколько вековому укладу человеческого бытия. Вопрос о том, зачем «голый человек» приходит на «голую землю», привлекал все больше. «Баллада о Савве», во многом сырая юношеская работа, уже наполнена размышлениями самого широкого христианского толка. Савва странник, и путь его лежит к надежде.
А вот резкая социальная критика появилась в двух поворотных книгах — «Карантине» и «Семи днях творения». В «Карантине» случайные любовники Борис Храмов и Мария из-за эпидемии холеры застревают в поезде посреди степи. Думая и одновременно стараясь забыть о жизни, переходя из вагона в вагон, они окунаются в рассказы попутчиков о сутяжничестве, воровстве и разврате; невольно обозревают брежневскую Россию — но это внешний план. Сны и видения о прошлом, странный персонаж Иван Иванович (ему принадлежит фраза «Всякий человек есть сам по себе запись всей земной истории») — не то бес, не то ангел, похожий на булгаковского Воланда, втягивающий и Бориса, и Марию в разговоры о спасении; а также постоянные размышления о Боге, любви и человечности — главное в этом романе. «Семь дней творения» описывают несчастливую судьбу трудовой семьи Лашковых. В финале главный герой — старший и прямолинейный коммунист Петр («Партийные уставы были для него важнее жены, детей и внуков. Он многое мог себе позволить. Кроме <…> сострадания» — писала критик Зента Маурина), переосмыслив прошлое, вновь обращается к жизни. Максимов завершает последнюю главу единственной фразой: «И наступил седьмой день — день надежды и воскресения…»
А вот резкая социальная критика появилась в двух поворотных книгах — «Карантине» и «Семи днях творения». В «Карантине» случайные любовники Борис Храмов и Мария из-за эпидемии холеры застревают в поезде посреди степи. Думая и одновременно стараясь забыть о жизни, переходя из вагона в вагон, они окунаются в рассказы попутчиков о сутяжничестве, воровстве и разврате; невольно обозревают брежневскую Россию — но это внешний план. Сны и видения о прошлом, странный персонаж Иван Иванович (ему принадлежит фраза «Всякий человек есть сам по себе запись всей земной истории») — не то бес, не то ангел, похожий на булгаковского Воланда, втягивающий и Бориса, и Марию в разговоры о спасении; а также постоянные размышления о Боге, любви и человечности — главное в этом романе. «Семь дней творения» описывают несчастливую судьбу трудовой семьи Лашковых. В финале главный герой — старший и прямолинейный коммунист Петр («Партийные уставы были для него важнее жены, детей и внуков. Он многое мог себе позволить. Кроме <…> сострадания» — писала критик Зента Маурина), переосмыслив прошлое, вновь обращается к жизни. Максимов завершает последнюю главу единственной фразой: «И наступил седьмой день — день надежды и воскресения…»
Ни один из этих романов советские издатели не приняли. Оба широко ходили в самиздате и в итоге вышли в заграничном «Посеве». За них Максимова исключили из Союза писателей (1973) c формулировкой: «за политические взгляды… и… творчество, несовместимые с Уставом Союза писателей СССР и званием советского писателя». А до того отправили в психушку на принудительное лечение. В 1974 году предложили выехать на год вместе с женой в Париж, опасаясь нового «лечения», Максимов согласился. И уже в 1975 его лишили гражданства. С этим вытеснением он так и не смирился. В том же телеинтервью «Культуре» он говорил, что живет в Париже, как в стереокино, только физически, мыслями по-прежнему находится в России.
«Максимовская проза субъективна. Но это не та субъективность, к которой нас приучила так называемая “лирическая проза”. Максимов — не мечтатель, созерцающий горизонты, а уж скорее неистовый режиссер, заставляющий актеров сшибаться насмерть. Или — неистовый следователь, который одержим жаждой дойти до сути, до смысла человеческой судьбы. Его проза — это, конечно, философская проза, вот что держит ее, вот что искупает в ней и тяжелую словесную ткань, и тяжелую символику подробностей, и тяжелую драматическую непоправимость сюжетов».
Л.А. Аннинский.
«Преодоление одиночества» (1971 г.)
И действительно, вся публицистическая и общественная деятельность Максимова за границей была направлена (и сам он стопроцентно в это верил) на благо его страны. Именно по этому он основал «Континент», первые два номера поддержал Солженицын, финансовую помощь много лет оказывал немецкий медиамагнат Аксель Шпрингер. В 70–80-е годы журнал был популярен и в эмиграции, и в России, куда попадал контрабандой через западных дипломатов и где считался опаснейшим антисоветским изданием. Почему? Потому что обсуждал все, о чем молчали в СССР, — ГУЛАГ, Катынь, положение брежневской экономики и многое-многое другое. В каждом номере подробно рассказывали о диссидентах. В разное время в журнале выступали А. Пятигоский, Р. Конквест,
Г. Померанц, И. Бирман, И. Голомшток, в редколлегию входили А. Сахаров, И. Бродский, М. Джилас, М. Кундера, Э. Ионеско и другие известные люди.
Г. Померанц, И. Бирман, И. Голомшток, в редколлегию входили А. Сахаров, И. Бродский, М. Джилас, М. Кундера, Э. Ионеско и другие известные люди.
Публицистика самого Максимова всегда была острой, редакторские колонки раздражали и вызывали споры по обе стороны океана. Один из известнейших его памфлетов «Сага о носорогах» (в 1981 году дал название отдельной книге) возмутил почти всех. Ведь носорогами, обрюзгшими и толстокожими, он объявил не только жирующих эмигрантов и западных интеллектуалов, но русских интеллигентов-перебежчиков.
Сегодняшнему читателю малопонятно появление «Интернационала сопротивления» — международной организации, которую Максимов фактически возглавил. Ее участники боролись с мировым коммунизмом. «Интернационал» распался после Перестройки, которой Максимов обрадовался. Вопреки общему мнению о том, что эмигрант не должен публиковаться в прокоммунистических газетах, напечатал ряд статей в «Правде». Но ельцинские реформы не принял, а расстрел Белого дома счел преступлением. В одной из статей даже объединился с Синявским («потому, что в жизни каждого человека есть ценности, которые ему дороже самого себя») в критике произошедшего.
Что еще? В 1990 году Максимову вернули гражданство. В 90-е он много бывал в России, здесь вновь напечатали его романы, ставили пьесы. А в 1992 году он передал «Континент» в Москву, после смерти Шпрингера (наследники отказались поддерживать русское издание) журнал несколько лет выходил на пожертвования и личные деньги Максимова. Но содержать редакцию было трудно, поэтому он передал его бывшему «новомировцу» Игорю Виноградову.
Да и здоровье окончательно испортилось. В 1995 году у Максимова обнаружили рак, от которого он вскоре умер.
Безусловно, если бы не «Континент» и не публицистика, в которую Владимир Ефимович углубился особенно в последние годы, прозы он написал бы значительно больше. Среди вышедших только в эмиграции книг — большой роман об освоении Советами Курил «Ковчег для незваных» (1976), в котором он переосмыслил роль женщины-«смиренницы» в возрождении России, и большая работа об адмирале Колчаке «Заглянуть в бездну» (1986)…
Сегодняшнему читателю малопонятно появление «Интернационала сопротивления» — международной организации, которую Максимов фактически возглавил. Ее участники боролись с мировым коммунизмом. «Интернационал» распался после Перестройки, которой Максимов обрадовался. Вопреки общему мнению о том, что эмигрант не должен публиковаться в прокоммунистических газетах, напечатал ряд статей в «Правде». Но ельцинские реформы не принял, а расстрел Белого дома счел преступлением. В одной из статей даже объединился с Синявским («потому, что в жизни каждого человека есть ценности, которые ему дороже самого себя») в критике произошедшего.
Что еще? В 1990 году Максимову вернули гражданство. В 90-е он много бывал в России, здесь вновь напечатали его романы, ставили пьесы. А в 1992 году он передал «Континент» в Москву, после смерти Шпрингера (наследники отказались поддерживать русское издание) журнал несколько лет выходил на пожертвования и личные деньги Максимова. Но содержать редакцию было трудно, поэтому он передал его бывшему «новомировцу» Игорю Виноградову.
Да и здоровье окончательно испортилось. В 1995 году у Максимова обнаружили рак, от которого он вскоре умер.
Безусловно, если бы не «Континент» и не публицистика, в которую Владимир Ефимович углубился особенно в последние годы, прозы он написал бы значительно больше. Среди вышедших только в эмиграции книг — большой роман об освоении Советами Курил «Ковчег для незваных» (1976), в котором он переосмыслил роль женщины-«смиренницы» в возрождении России, и большая работа об адмирале Колчаке «Заглянуть в бездну» (1986)…
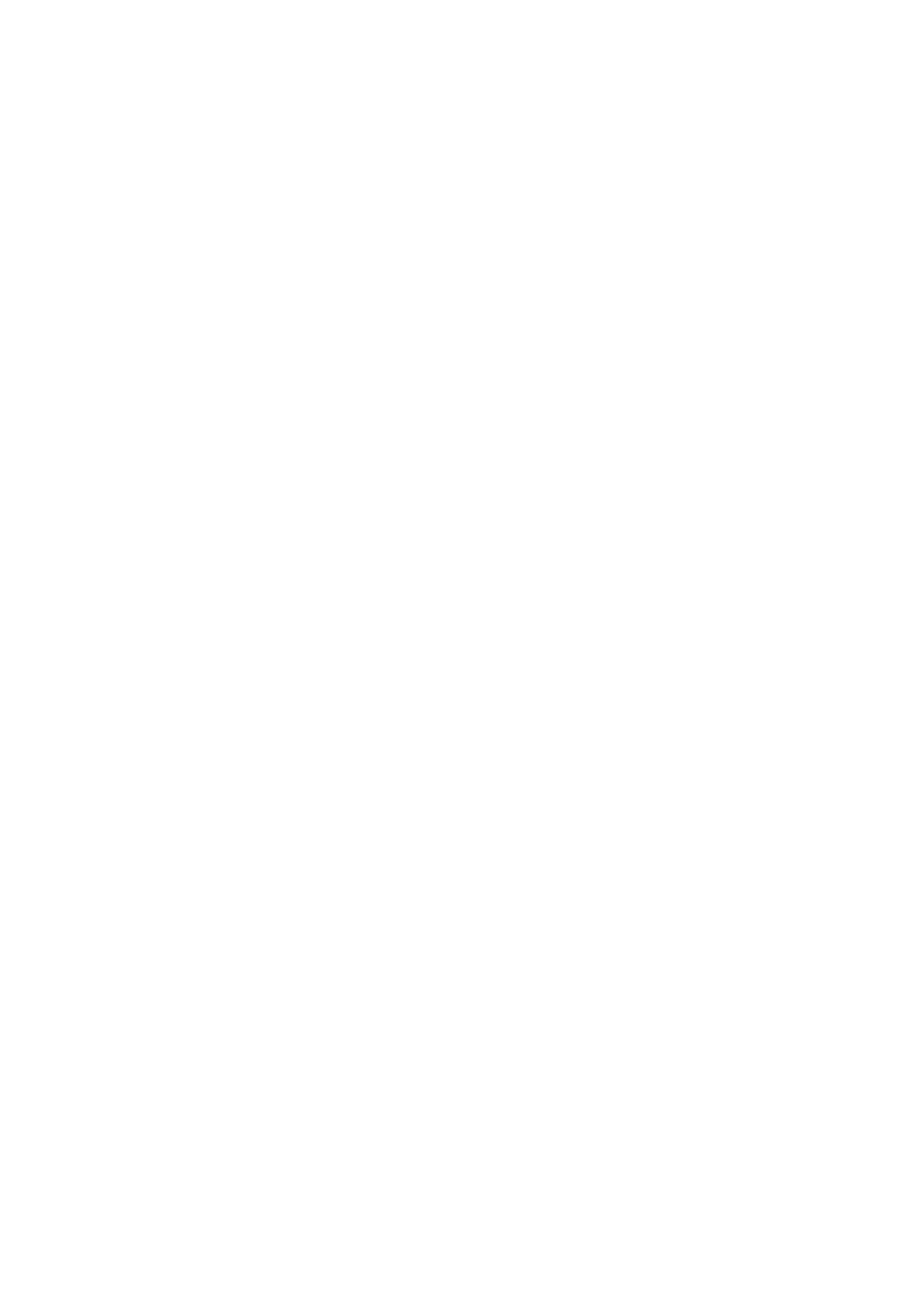
Свобода на берегах Сены
В некотором смысле Париж освободил Владимира Максимова. Здесь он начал много писать и активно высказываться о жизни Советской России. Публицистика и основанный им журнал «Континент» занимали почти все его время