Кутеп - паша
Александр Павлович Кутепов (1882–1930)
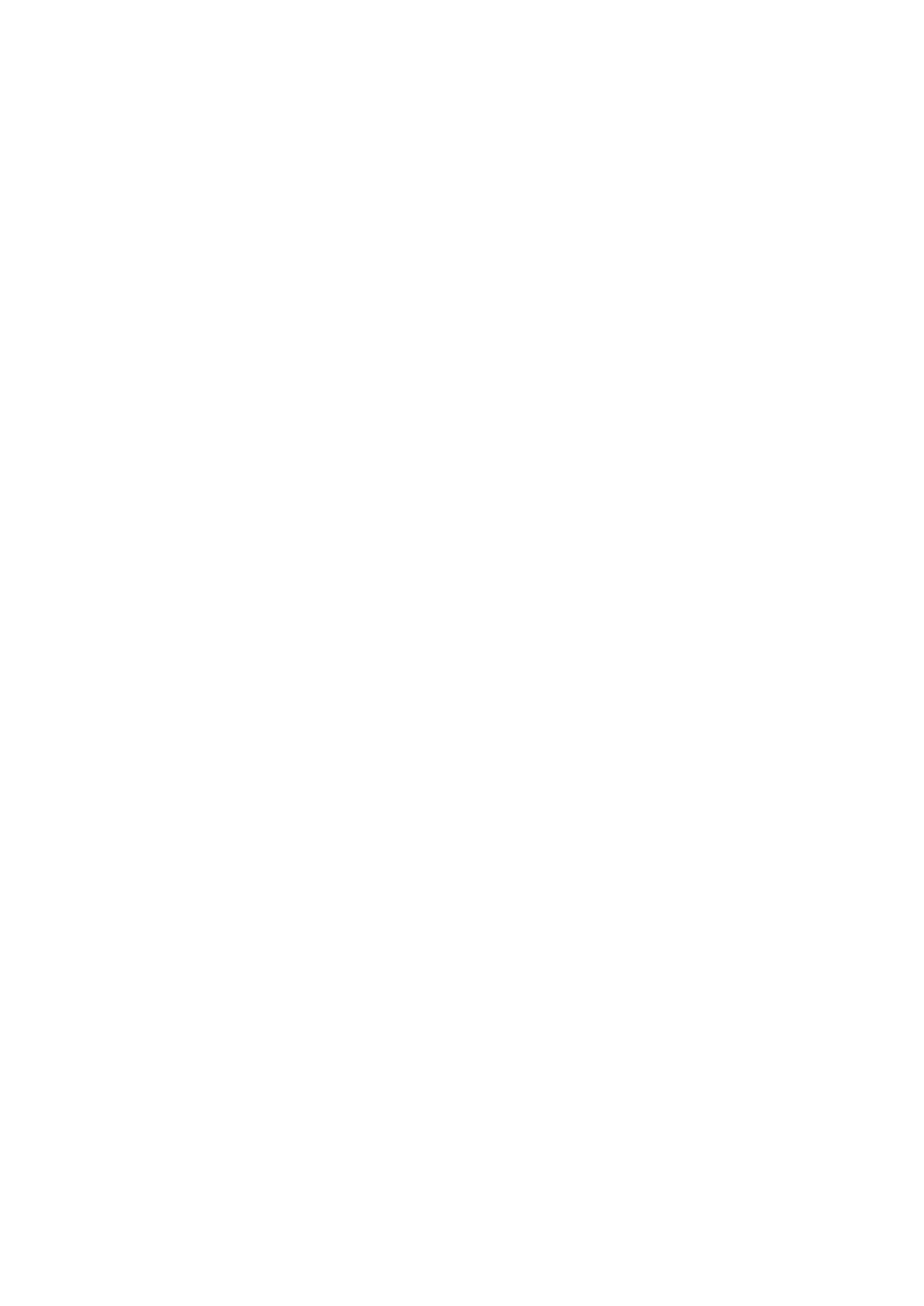
У картины «Кремль», написанной на стене дома в Галлиполи юнкерами Алексеевского училища и подаренной генералу
В 1920–1921 годах генерал А.П. Кутепов стал настоящей легендой для русской эмиграции, сотворив «Галлиполийское чудо» и вдохнув жизнь в, казалось бы, разложившиеся части русской белой армии
В 1920–1921 годах генерал А.П. Кутепов стал настоящей легендой для русской эмиграции, сотворив «Галлиполийское чудо» и вдохнув жизнь в, казалось бы, разложившиеся части русской белой армии
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
16 (28) сентября 1882 г. —родился в городе Череповце Новгородской губернии
1902 г. — начало обучения в Санкт-Петербургском пехотном юнкерском училище
1904—1905 гг. — участие в войне с Японией
1914—1917 гг. — участие в Первой мировой войне
Конец 1917 г. — вступление в Добровольческую армию
Осень 1918 г. — назначение Черноморским военным губернатором
Январь 1919 г. — назначение командиром 1-го армейского корпуса
Сентябрь 1920 г. — назначение командующим 1-й армией
Ноябрь 1920 г. — назначен помощником главкома и командиром 1-го армейского корпуса в Галлиполи
1929 г. — возглавление РОВС
26 января 1930 г. — похищен в Париже агентами советской разведки
16 (28) сентября 1882 г. —родился в городе Череповце Новгородской губернии
1902 г. — начало обучения в Санкт-Петербургском пехотном юнкерском училище
1904—1905 гг. — участие в войне с Японией
1914—1917 гг. — участие в Первой мировой войне
Конец 1917 г. — вступление в Добровольческую армию
Осень 1918 г. — назначение Черноморским военным губернатором
Январь 1919 г. — назначение командиром 1-го армейского корпуса
Сентябрь 1920 г. — назначение командующим 1-й армией
Ноябрь 1920 г. — назначен помощником главкома и командиром 1-го армейского корпуса в Галлиполи
1929 г. — возглавление РОВС
26 января 1930 г. — похищен в Париже агентами советской разведки
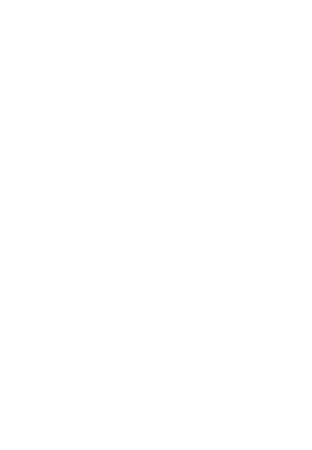
Генерал от инфантерии А.П. Кутепов в погонах Дроздовского стрелкового полка. 1920-е гг.
Один из самых известных белогвардейских военачальников, легендарный Кутеп-паша, Александр Павлович Кутепов…
Жизнь и карьера нашего героя складывалась подобно тысячам других русских офицеров: обучение в юнкерском училище, производство в первый офицерский чин — подпоручика и, наконец, Русско-японская война (1904–1905), в которой за отличия в делах против японцев молодой офицер получил целую россыпь боевых наград. Уже в то время Кутепов обращал на себя внимание искренней увлеченностью военным делом, умением добиться от своих подчиненных образцовой дисциплины, исключительной даже для кадрового офицера армейской выправкой, а главное — неслыханной храбростью. В конце 1906 года Кутепов был зачислен на службу в прославленный лейб-гвардии Преображенский полк, издавна находившийся на особом попечении дома Романовых: шефом полка считался глава царствующего дома — император. В дни Первой мировой (Великой) войны Кутепов снова отличился: за боевые заслуги храбрый офицер незадолго до Февральской революции был досрочно произведен в чин полковника.
Волей судьбы Кутепов, временно исполнявший должность командира преображенцев, оказался одним из тех офицеров, которые оставались верны присяге и царю в дни хаотического безумия, охватившего столицу империи в конце февраля 1917 года. По приказанию командующего войсками Петроградского военного округа генерала С.С. Хабалова Кутепов был назначен командиром отряда, на который возложили задачу оцепить район от Литейного моста до Николаевского вокзала, загнать бунтовщиков к Неве и навести порядок. Со свойственной ему решительностью Кутепов заявил о том, что не остановится перед расстрелом всей толпы восставшего народа… Однако энергии и харизмы Кутепова было недостаточно для того, чтобы остановить волну революции: решить поставленные перед отрядом задачи не удалось. Испытавший глубокое разочарование, Кутепов отправился на фронт, куда сумел добраться после долгих приключений. Осенью 1917 года он был назначен командиром лейб-гвардии Преображенского полка — как оказалось, последним в его славной истории.
Смириться с захватом власти большевиками, немедленно объявившими о своем желании открыть сепаратные переговоры с Германией и ее союзниками, Кутепов не мог. Вскоре Александр Павлович вступил в Алексеевскую организацию, преобразованную в конце 1917 года в Добровольческую армию. Отряд под командованием полковника Кутепова успешно сдерживал под Ростовом-на-Дону натиск превосходящих отрядов красногвардейцев, защищая, сколько было сил, калединский Дон.
Жизнь и карьера нашего героя складывалась подобно тысячам других русских офицеров: обучение в юнкерском училище, производство в первый офицерский чин — подпоручика и, наконец, Русско-японская война (1904–1905), в которой за отличия в делах против японцев молодой офицер получил целую россыпь боевых наград. Уже в то время Кутепов обращал на себя внимание искренней увлеченностью военным делом, умением добиться от своих подчиненных образцовой дисциплины, исключительной даже для кадрового офицера армейской выправкой, а главное — неслыханной храбростью. В конце 1906 года Кутепов был зачислен на службу в прославленный лейб-гвардии Преображенский полк, издавна находившийся на особом попечении дома Романовых: шефом полка считался глава царствующего дома — император. В дни Первой мировой (Великой) войны Кутепов снова отличился: за боевые заслуги храбрый офицер незадолго до Февральской революции был досрочно произведен в чин полковника.
Волей судьбы Кутепов, временно исполнявший должность командира преображенцев, оказался одним из тех офицеров, которые оставались верны присяге и царю в дни хаотического безумия, охватившего столицу империи в конце февраля 1917 года. По приказанию командующего войсками Петроградского военного округа генерала С.С. Хабалова Кутепов был назначен командиром отряда, на который возложили задачу оцепить район от Литейного моста до Николаевского вокзала, загнать бунтовщиков к Неве и навести порядок. Со свойственной ему решительностью Кутепов заявил о том, что не остановится перед расстрелом всей толпы восставшего народа… Однако энергии и харизмы Кутепова было недостаточно для того, чтобы остановить волну революции: решить поставленные перед отрядом задачи не удалось. Испытавший глубокое разочарование, Кутепов отправился на фронт, куда сумел добраться после долгих приключений. Осенью 1917 года он был назначен командиром лейб-гвардии Преображенского полка — как оказалось, последним в его славной истории.
Смириться с захватом власти большевиками, немедленно объявившими о своем желании открыть сепаратные переговоры с Германией и ее союзниками, Кутепов не мог. Вскоре Александр Павлович вступил в Алексеевскую организацию, преобразованную в конце 1917 года в Добровольческую армию. Отряд под командованием полковника Кутепова успешно сдерживал под Ростовом-на-Дону натиск превосходящих отрядов красногвардейцев, защищая, сколько было сил, калединский Дон.
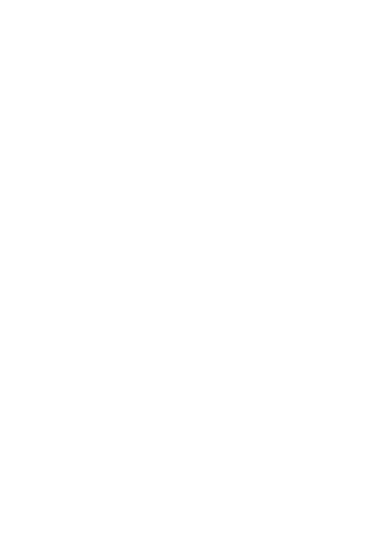
Д. Трофимов. Потрет генерала А.П. Кутепова
(иллюстрация предоставлена информационным агентством «Белые воины»)
(иллюстрация предоставлена информационным агентством «Белые воины»)
В дни героического Первого Кубанского «Ледяного» похода Добровольческой армии Кутепов также на особом счету. Командовавший 3-й офицерской ротой Марковского полка Александр Павлович, за считаные часы до гибели вождя истекающей кровью армии генерала Л.Г. Корнилова, приказом последнего был назначен командиром Корниловского полка, сменив убитого накануне полковника М.О. Неженцева.
При преемнике Корнилова генерале А.И. Деникине Кутепов выдвигается на первые роли, выделяясь отвагой и непреклонной решительностью даже в ряду таких прославленных белогвардейских военачальников, как генералы П.Н. Врангель, И.Г. Эрдели, Б.И. Казанович, С.Г. Улагай. Корниловцы под командованием полковника Кутепова были не просто самой знаменитой из частей Добровольческой армии, но и главной опорой Деникина. В августе 1918 года, в ознаменование заслуг Кутепова уже в период Второго Кубанского похода Добровольческой армии, Деникин назначает Александра Павловича черноморским губернатором, доверяя ему управление значительной частью контролируемой южнорусским Белым движением «государственной территории» («Деникии», как нередко называли ее в то время в советских газетах).
При преемнике Корнилова генерале А.И. Деникине Кутепов выдвигается на первые роли, выделяясь отвагой и непреклонной решительностью даже в ряду таких прославленных белогвардейских военачальников, как генералы П.Н. Врангель, И.Г. Эрдели, Б.И. Казанович, С.Г. Улагай. Корниловцы под командованием полковника Кутепова были не просто самой знаменитой из частей Добровольческой армии, но и главной опорой Деникина. В августе 1918 года, в ознаменование заслуг Кутепова уже в период Второго Кубанского похода Добровольческой армии, Деникин назначает Александра Павловича черноморским губернатором, доверяя ему управление значительной частью контролируемой южнорусским Белым движением «государственной территории» («Деникии», как нередко называли ее в то время в советских газетах).
В этот период времени Деникин видел в Кутепове одного из своих надежнейших соратников, признавая в Александре Павловиче, произведенном в ноябре 1918 года приказом главкома в генералы, главные из его качеств — надежность, умение поддерживать во вверенных ему частях железную дисциплину, абсолютную непримиримость к революции во всех ее проявлениях. Было и еще одно качество Кутепова, которое отмечали все: исключительная, граничащая с беспощадной жестокость в отношении всего, что вредило, по его мнению, благу государства. «Ложный сентиментализм был чужд его душе», — писал о Кутепове его боевой соратник генерал Б.А. Штейфон. В отношении большевиков Александр Павлович был сторонником крайних мер. Он не был кровожаден, подобно Б.В. Анненкову, Р.Ф. Унгерну и, в меньшей степени, В.Л. Покровскому, но считал виселицы и расстрелы против врагов России, т. е., в его глазах, большевиков, одной из наиболее действенных мер по водворению порядка в стране.
К концу 1919 года Кутепов входил в число самых влиятельных военачальников Вооруженных сил Юга России под главнокомандованием генерала Деникина; именно он командовал 1-м армейским корпусом, который нес основную боевую нагрузку как в период наступления белогвардейцев на красную Москву, так и в тяжелейшую для добровольцев пору отступления. Катастрофу белого Юга Кутепов воспринял не просто как личную трагедию, для него это означало крушение дорогого сердцу миропорядка, гибель исторической России.
При Врангеле Кутепов не просто укрепляет свои позиции, он становится самым знаменитым и влиятельным (естественно, после самого барона) военачальником белой армии. Обладавший колоссальным авторитетом в «цветных» частях, Кутепов был своеобразным государством в государстве; при Врангеле его значение возросло даже в сравнении с деникинскими временами. По сути, Кутепов признавал над собой лишь одного начальника — Врангеля. Как вспоминал начальник оперативного отделения при генерал-квартирмейстере штаба главнокомандующего полковнике Г.И. Коновалове Генерального штаба полковник А.М. Шкеленко, «почти ни одна директива, отдававшаяся по инициативе генерал-квартирмейстерского отдела Ставки, не принималась генералом Кутеповым к исполнению без протеста». Кутепов обладал немалым влиянием на главнокомандующего, который не мог не считаться с тем, что второго военного профессионала такого класса, как Кутепов, в его армии попросту не было. Знал Врангель также и то, что Кутепов не остановится перед самыми жестокими, поистине драконовскими мерами, добиваясь как решения боевой задачи, так и наведения порядка в тылу. В 1920 году Кутепов был уже поистине живой легендой белой армии, его зычный голос, уникальная способность всюду поспевать были притчей во языцех. Сам внешний облик генерала — поджарого, атлетически сложенного мужчины, с черной как смоль бородой — буквально излучал уверенность в себе и харизму…
К концу 1919 года Кутепов входил в число самых влиятельных военачальников Вооруженных сил Юга России под главнокомандованием генерала Деникина; именно он командовал 1-м армейским корпусом, который нес основную боевую нагрузку как в период наступления белогвардейцев на красную Москву, так и в тяжелейшую для добровольцев пору отступления. Катастрофу белого Юга Кутепов воспринял не просто как личную трагедию, для него это означало крушение дорогого сердцу миропорядка, гибель исторической России.
При Врангеле Кутепов не просто укрепляет свои позиции, он становится самым знаменитым и влиятельным (естественно, после самого барона) военачальником белой армии. Обладавший колоссальным авторитетом в «цветных» частях, Кутепов был своеобразным государством в государстве; при Врангеле его значение возросло даже в сравнении с деникинскими временами. По сути, Кутепов признавал над собой лишь одного начальника — Врангеля. Как вспоминал начальник оперативного отделения при генерал-квартирмейстере штаба главнокомандующего полковнике Г.И. Коновалове Генерального штаба полковник А.М. Шкеленко, «почти ни одна директива, отдававшаяся по инициативе генерал-квартирмейстерского отдела Ставки, не принималась генералом Кутеповым к исполнению без протеста». Кутепов обладал немалым влиянием на главнокомандующего, который не мог не считаться с тем, что второго военного профессионала такого класса, как Кутепов, в его армии попросту не было. Знал Врангель также и то, что Кутепов не остановится перед самыми жестокими, поистине драконовскими мерами, добиваясь как решения боевой задачи, так и наведения порядка в тылу. В 1920 году Кутепов был уже поистине живой легендой белой армии, его зычный голос, уникальная способность всюду поспевать были притчей во языцех. Сам внешний облик генерала — поджарого, атлетически сложенного мужчины, с черной как смоль бородой — буквально излучал уверенность в себе и харизму…
«Только железная воля генерала Кутепова могла преодолеть все эти трудности. Всегда полуголодные, скверно одетые, в большинстве полубосые, в холоде и в дождь, войска в полном смысле слова не имели отдыха в тот тяжкий период, который длился в Галлиполи до Пасхи. И эти безотрадные условия существования отягчались еще требованиями суровой дисциплины. Последнее делалось вполне сознательно, ибо галлиполийское командование прекрасно сознавало, что только дисциплиной можно побудить людей на крайнее напряжение их воли и сил. И в столь тяжких условиях, страданиях и в непрерывном труде очищалась и просветлялась русская душа… Программа командира корпуса была ясна: воскресить в Галлиполи Русскую Государственность и Русскую армию… Жесткой, очень жесткой щеткой приходилось отчищать русскую душу, но очищенная она засияла своей красотой… галлиполийская система воспитания дала воистину поразительные результаты. Энергией, настойчивостью, а в особенности системой Галлиполи показало, как чутка русская душа и как быстро достигает она просветления».
Генерал Б.А. Штейфон. «Записки Галлиполийского коменданта» (1920–1921 гг.)
Однако кто бы мог подумать, что настоящая слава придет к Кутепову не в России, а в эмиграции, уже после поражения белых армий — в неприветливо встретившем русских изгнанников военном лагере Галлиполи. После великого русского исхода из Крыма в зарубежье наиболее организованные части из состава армии Врангеля были сведены в 1-й армейский корпус, местом расквартирования которого стал Галлиполи. Галлиполи, который, со свойственной нам, русским, горькой самоиронией, эмигранты немедленно окрестили Голое Поле, должен был стать местом окончательного разложения армии — здесь собрались те, кто уже не питал никаких надежд относительно возможности продолжения дальнейшей борьбы с большевиками; здесь измученные люди должны были окончательно утратить человеческий облик, армия должна была превратиться в орду вооруженных беженцев. Однако Галлиполи, в значительной степени благодаря небывалой энергии Кутепова, напротив, стал местом воскрешения надежд; в Галлиполи эмигранты сумели собраться в кулак, спаянный верой в то, что Россия воскреснет. Авторитет Кутепова в Галлиполи был огромен: жестокий, непреклонный командир сумел вернуть в армию Дух. Кутепов стал подлинным символом Галлиполи, Кутеп-пашой, как прозвали его турки, всеевропейской знаменитостью, олицетворением несгибаемой воли русского офицера.
Все 1920-е годы Кутепов жил надеждой на скорое продолжение вооруженной борьбы с большевиками; в значительной степени именно Александр Павлович был главным «лоббистом» идей эмигрантского активизма, разделяемых далеко не всеми, даже абсолютно непримиримо настроенными по отношению к советской власти русскими изгнанниками. Будучи по своей природе человеком достаточно недоверчивым, Кутепов не был склонен поддерживать откровенно наивные проекты по свержению Советов, исходившие от некоторых представителей военного зарубежья; вместе с тем нельзя не признать того, что в определенный момент Кутепов поддался гипнозу знаменитого «Треста» — образцовой операции ОГПУ… Вплоть до момента смерти председателя Русского общевоинского союза (РОВСа) Врангеля в 1928 году Кутепов — признанный белогвардеец № 2 в организации РОВС; во многом закономерно поэтому и утверждение великим князем Николаем Николаевичем А.П. Кутепова на пост преемника Врангеля. Председателем РОВС Кутепов будет до самой своей смерти.
Приход к власти в РОВС чрезвычайно волевого и харизматичного генерала Кутепова, одного из самых известных и влиятельных белогвардейских военачальников, вопреки ожиданиям заинтересованных лиц в Советской России не привел к консервации политической деятельности зарубежного воинства. Кутепов, напротив, не просто развил колоссальную деятельность, но и резко активизировал политическую работу. Несмотря на то что подрывная деятельность РОВС, за исключением знаменитого взрыва в ленинградском партклубе в 1927 году, фактически была безрезультатной, само имя Кутепова, прославленного Кутеп-паши, позволяло эмиграции питать еще какие-то надежды на то, что со временем бывшие белогвардейцы будут призваны на Родину и сыграют при установлении нового порядка большую роль.
Приход к власти в РОВС чрезвычайно волевого и харизматичного генерала Кутепова, одного из самых известных и влиятельных белогвардейских военачальников, вопреки ожиданиям заинтересованных лиц в Советской России не привел к консервации политической деятельности зарубежного воинства. Кутепов, напротив, не просто развил колоссальную деятельность, но и резко активизировал политическую работу. Несмотря на то что подрывная деятельность РОВС, за исключением знаменитого взрыва в ленинградском партклубе в 1927 году, фактически была безрезультатной, само имя Кутепова, прославленного Кутеп-паши, позволяло эмиграции питать еще какие-то надежды на то, что со временем бывшие белогвардейцы будут призваны на Родину и сыграют при установлении нового порядка большую роль.
«Одно ясно — его похитили, и след его пока потерян. Трупа не нашлось, и, быть может, его положение хуже, чем смерть, что он находится в руках большевиков, инициатива которых, конечно, несомненна и они стараются его использовать, а как они могут это делать, комментировать не надо… Чем больше я думаю об этом, тем яснее представляется мне, что для завершения удара им необходимо переправить его в Россию и инсценировать раскаяние и переход к красным. […] Значит, делая холодный вывод, несомненно, что в окружении А.П. [Кутепова] оказался свой предатель и что вся его работа в России должна быть прекращена его заместителем и начата вновь… Меня беспокоит очень и очень, чем дальше я веду мои прогнозы, тем более мне ясно, что большевики, захватив Кутепова, а это, конечно, они его захватили, должны развить свой успех и довершить удар по РОВС, посеяв мысль о предательстве… Кутепова. Вот когда скажется зло, посеянное [Я.А.] Слащевым, — можно одному, возможно другому… И, конечно, использовав Кутепова, они покончат с ним! И найдется немало лиц, которые поверят всему! И Галлиполи пойдет насмарку!»
Генерал А.А. фон Лампе. Дневник.
Запись от 29 января 1930 г.
Исчезновение Кутепова потрясло не только эмиграцию, но и всю Европу и оставалось одной из наиболее обсуждаемых новостей 1930 года. Сами обстоятельства, связанные с тем, что генерал Кутепов пропал средь бела дня в центре Парижа, были настолько загадочны, что вызвали поначалу версии не только о руке большевиков, но и о том, что исчезновение это произошло по доброй воле самого Кутепова, пожелавшего, дескать, вернуться на Родину. Было очевидно также и то, что, если генерал будет доставлен в СССР, над ним будет устроен в лучших традициях жанра — так, как это было, например, с Б.В. Анненковым и Б.В. Савинковым, — показательный судебный процесс с очевидным приговором.
Действительно, решение о похищении Кутепова, вывозе его в СССР и подготовке в Стране Советов показательного судебного процесса было принято еще в 1929 году, а для осуществления этой операции во Францию были направлены агенты ИНО ОГПУ. Смерть
Кутепова, не выдержавшего введенного ему наркоза, сорвала планы похитителей, но ключевая задача задуманной чекистами операции оказалась выполнена: белая военная эмиграция была обезглавлена. По выражению историка и писателя С.Ю. Рыбаса, РОВС без Кутепова «стал ниже ростом, отяжелел». Найти адекватную замену Кутепову было невозможно. Если при Кутепове белые в своей борьбе с советскими спецслужбами пытались играть, выражаясь шахматной терминологией, белыми, то при преемнике Кутепова Е.К. Миллере, которого, в свою очередь, похитят большевики семь лет спустя, инициатива безоговорочно принадлежала уже чекистам.
Действительно, решение о похищении Кутепова, вывозе его в СССР и подготовке в Стране Советов показательного судебного процесса было принято еще в 1929 году, а для осуществления этой операции во Францию были направлены агенты ИНО ОГПУ. Смерть
Кутепова, не выдержавшего введенного ему наркоза, сорвала планы похитителей, но ключевая задача задуманной чекистами операции оказалась выполнена: белая военная эмиграция была обезглавлена. По выражению историка и писателя С.Ю. Рыбаса, РОВС без Кутепова «стал ниже ростом, отяжелел». Найти адекватную замену Кутепову было невозможно. Если при Кутепове белые в своей борьбе с советскими спецслужбами пытались играть, выражаясь шахматной терминологией, белыми, то при преемнике Кутепова Е.К. Миллере, которого, в свою очередь, похитят большевики семь лет спустя, инициатива безоговорочно принадлежала уже чекистам.
Кутепов был ликвидирован, формально возложить вину в покушении на него на советскую сторону французское правосудие не имело возможности, поскольку итоги официального расследования были катастрофически малыми. Точная причина смерти генерала так и осталась достоверно неизвестной — существует лишь наиболее вероятная версия ее; не известно и то место, где нашли свое упокоение его останки. На данный момент существует только символическое захоронение — кенотаф Кутепова; розыски его фактической могилы продолжаются до сих пор. Известно только то, что Кутепов скончался в первые же часы после своего похищения; ровно так же известно и то, что надежды ИНО ОГПУ на вывоз генерала в СССР для использования его в дальнейшей разработке против РОВС не увенчались успехом.
Страшным последним часам Кутепова предшествовала не слишком долгая по обычным человеческим меркам, крайне непростая, изобиловавшая массой коллизий жизнь, отмеченная прижизненной популярностью, которую смело можно назвать легендарной славой. В длинном списке генералов-участников Белого движения Кутепов выделяется, занимая одно из самых видных мест.
Страшным последним часам Кутепова предшествовала не слишком долгая по обычным человеческим меркам, крайне непростая, изобиловавшая массой коллизий жизнь, отмеченная прижизненной популярностью, которую смело можно назвать легендарной славой. В длинном списке генералов-участников Белого движения Кутепов выделяется, занимая одно из самых видных мест.
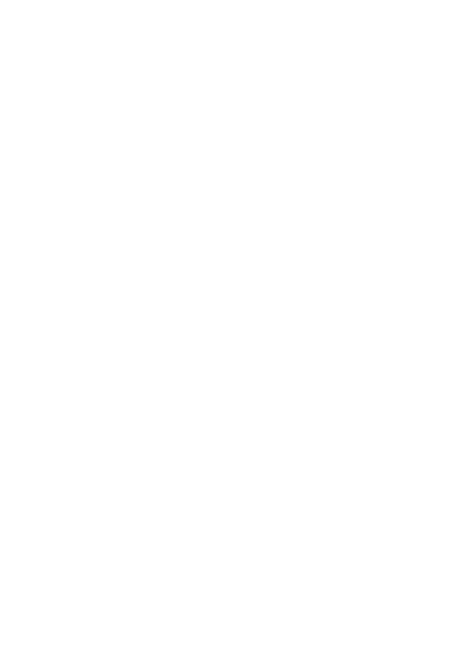
Парижский страж порядка
26 января 1930 года Александр Павлович Кутепов был похищен в Париже агентами советской разведки, доза введенного ему наркоза оказалась смертельной. Неизвестным остается место его захоронения. Существует лишь символическая могила Кутепова на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа