«Я просто русским был поэтом»
Наум Коржавин
(1925–2018)
(1925–2018)
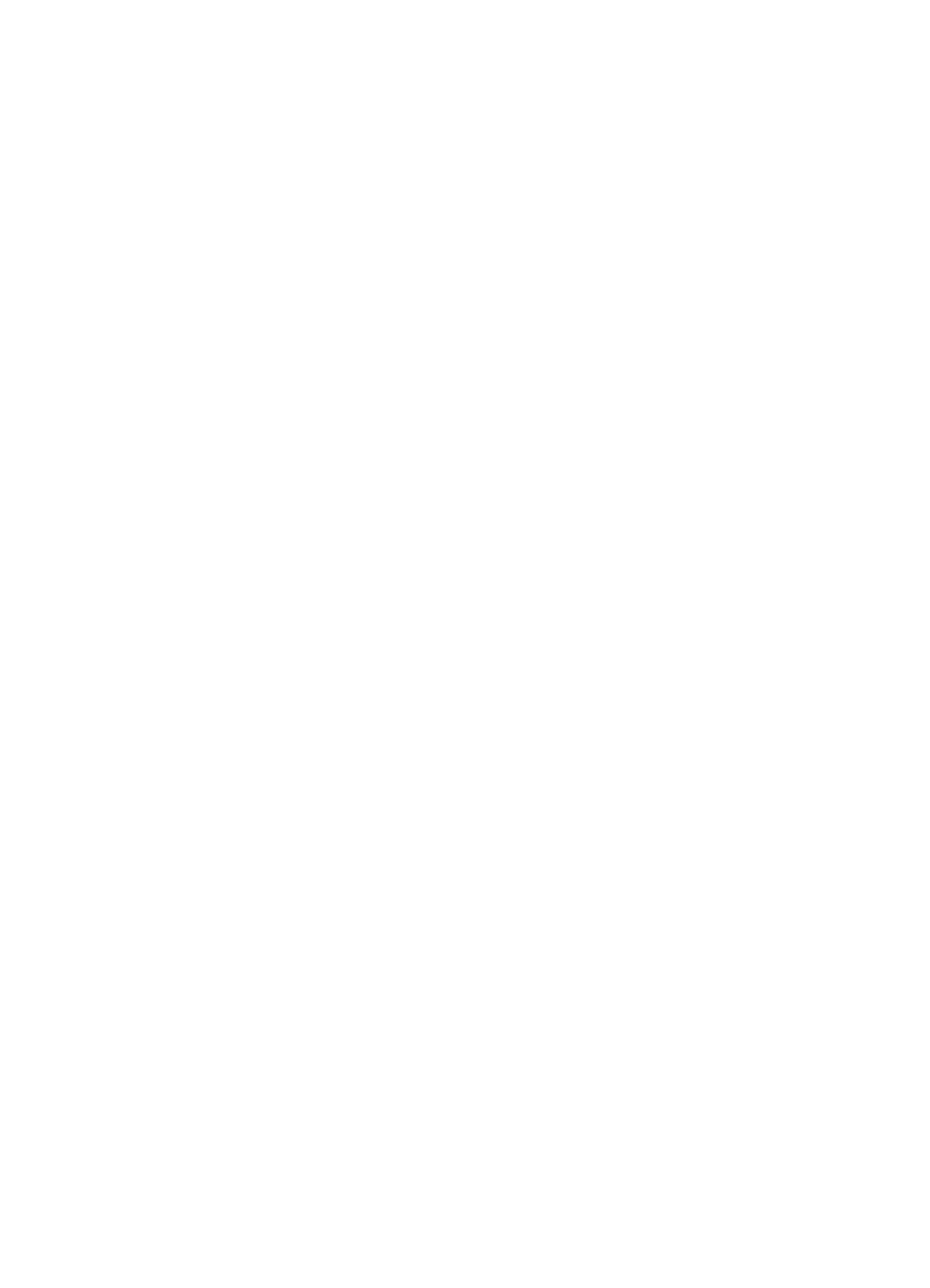
«Эта церковь светила светом...»
Наум Коржавин о своем отношении к вере: «…То, что я… крестился, естественный итог всей моей жизни»
Наум Коржавин о своем отношении к вере: «…То, что я… крестился, естественный итог всей моей жизни»
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
14 октября 1925 г. — родился в Киеве
1945 г. — поступил в Литературный институт им. А.М. Горького в Москве
Декабрь 1947 г. — арестован
1948–1954 гг. — ссылка в Сибирь и поселение в Караганде
1954 г. — амнистия
1956 г. — реабилитация
1963 г. — выход сборника «Годы», прием в Союз писателей СССР
Октябрь 1973 г. — эмиграция
Осень 1989 г. — первый приезд в Москву из эмиграции
2016 г. — присуждение Российской национальной премии «Поэт»
22 июня 2018 г. — скончался в США, штат Северная Каролина
28 сентября 2018 г. — захоронение урны с прахом на Ваганьковском кладбище в Москве
14 октября 1925 г. — родился в Киеве
1945 г. — поступил в Литературный институт им. А.М. Горького в Москве
Декабрь 1947 г. — арестован
1948–1954 гг. — ссылка в Сибирь и поселение в Караганде
1954 г. — амнистия
1956 г. — реабилитация
1963 г. — выход сборника «Годы», прием в Союз писателей СССР
Октябрь 1973 г. — эмиграция
Осень 1989 г. — первый приезд в Москву из эмиграции
2016 г. — присуждение Российской национальной премии «Поэт»
22 июня 2018 г. — скончался в США, штат Северная Каролина
28 сентября 2018 г. — захоронение урны с прахом на Ваганьковском кладбище в Москве
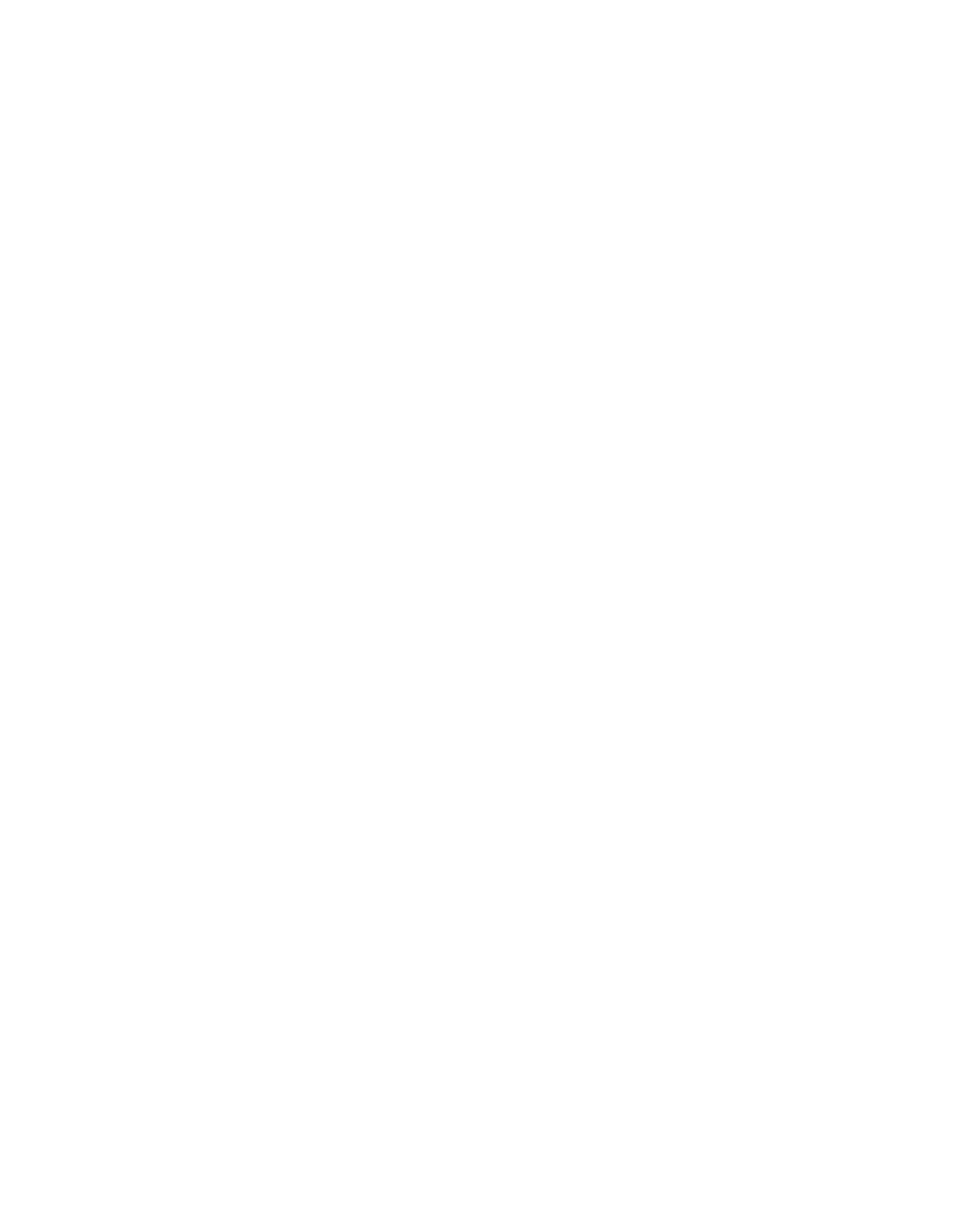
Н. Коржавин. Москва. 1989 г.
Наум Коржавин — легенда своего поколения. Люди цитировали его стихотворные строчки, порой даже не зная имени автора. В памяти читателей он навсегда останется поэтом, настойчиво пытавшимся понять судьбу России, соотнести с ней свою систему жизненных ценностей. В программной статье «Опыт внутренней биографии», написанной в августе — сентябре 1968 года и опубликованной спустя 45 лет в сборнике «В защиту банальных истин», Коржавин рассказывает, как изживал в себе сначала пламенного мирового революционера, а затем влияние сталинизма: «Вообще, тогда в моей душе господствовали две стихии — Революция и Россия».
Наум Коржавин (Эммануил Моисеевич Мандель) родился 14 октября 1925 года в Киеве. Отец его был переплетчиком, а мать — зубным врачом. Эмка (так, сокращая его, внука цадика, библейское имя, называли Коржавина близкие) с детства писал стихи, которые в школьные годы были отмечены вниманием Николая Асеева и Ильи Эренбурга. В юности волнующей его темой становится революция. Он ощущал себя наследником великих перемен, «скорбел о том, что революция подменена». В начале войны с родителями жил в эвакуации в Челябинской области, где в 1942 году окончил школу-десятилетку. В армию не попал по причине сильной близорукости и в 1944 году решил поступать в московский Литературный институт, в котором начал учиться годом позже.
Наум Коржавин (Эммануил Моисеевич Мандель) родился 14 октября 1925 года в Киеве. Отец его был переплетчиком, а мать — зубным врачом. Эмка (так, сокращая его, внука цадика, библейское имя, называли Коржавина близкие) с детства писал стихи, которые в школьные годы были отмечены вниманием Николая Асеева и Ильи Эренбурга. В юности волнующей его темой становится революция. Он ощущал себя наследником великих перемен, «скорбел о том, что революция подменена». В начале войны с родителями жил в эвакуации в Челябинской области, где в 1942 году окончил школу-десятилетку. В армию не попал по причине сильной близорукости и в 1944 году решил поступать в московский Литературный институт, в котором начал учиться годом позже.
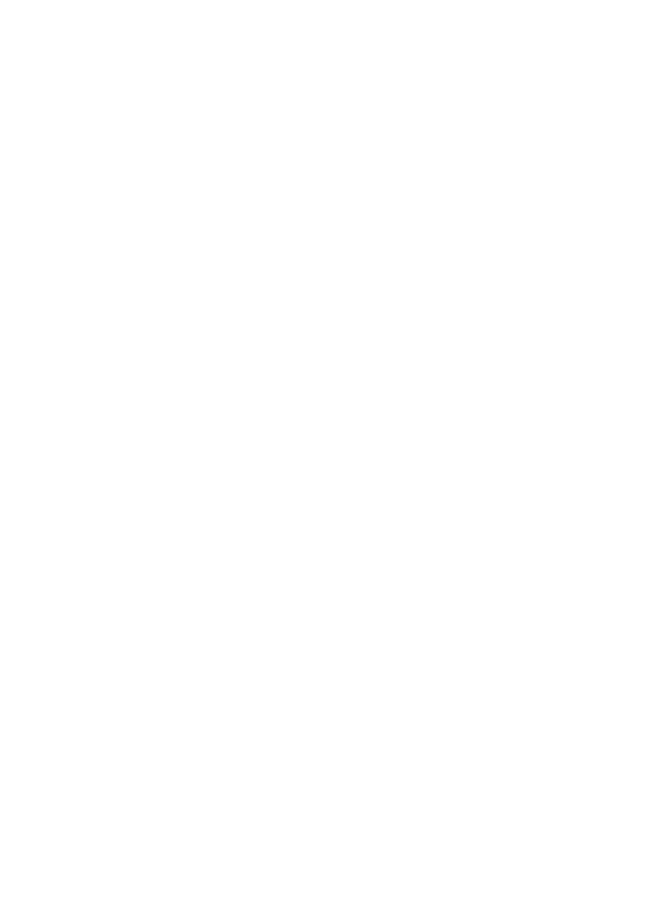
Портрет Эмки Манделя работы его однокашника Виктора Гончарова. 1945 г.
Распространяемые в списках стихи Коржавина (многие по тем временам крамольные) быстро становились известными. В 1947 году они привели студента третьего курса Литературного института к аресту. После восьми месяцев, проведенных на Лубянке, Коржавин был осужден «как социально опасный элемент» и сослан за чтение стихов «идеологически невыдержанного содержания» в сибирское село Чумаково. Затем около трех лет жил в Караганде, где в 1953 году окончил горный техникум и приобрел специальность горного мастера. Также Коржавин работал литсотрудником в газете «Социалистическая Караганда». В это время поэт пишет знаменитое стихотворение «На смерть Сталина», в котором делится тем, что осознал окончательно и бесповоротно: «Что слепо верить // никому не надо // И к правде ложь // не может привести».
В 1954 году, после амнистии, Наум Коржавин вернулся в Москву, был реабилитирован, восстановлен в Литературном институте, который окончил в 1959 году.
В 1954 году, после амнистии, Наум Коржавин вернулся в Москву, был реабилитирован, восстановлен в Литературном институте, который окончил в 1959 году.
«Я всегда жил Россией, интересовался всем, что там происходит, да и друзья у меня всегда там были. Сейчас, в наши дни, люди оттуда приезжают и я там часто бываю. Я вовсе не так оторван. И вообще, я — человек тамошний».
Н. Коржавин.
Из интервью «Я всегда жил Россией» (2007 г.)
В публицистической автобиографии Коржавин откровенно пишет о том, что Великая Отечественная война заставила его понять русский характер и Россию: «Она открыла для меня Россию… С тех пор Россия стала значить для меня не меньше, чем мировая революция, а со временем и вовсе затмила эту романтику. Причем имел для меня значение не только язык, но и то, что говорилось на этом языке, хотя говорилось, понятно, всякое… Россия перетряхнула меня всего. Я влюбился в русский характер, в русское отношение к жизни, очень долго вообще не умел воспринять это критически. Меня захватила духовная стихия России, неотрывность духовности от быта».
В 1945 году поэт так обозначил свою связь с родной страной:
Мы родились в большой стране,
в России,
В запутанной, но правильной
стране.
И знали, разобраться не умея
И путаясь во множестве вещей,
Что все пути вперед лишь
только с нею,
А без нее их нету вообще.
В 1945 году поэт так обозначил свою связь с родной страной:
Мы родились в большой стране,
в России,
В запутанной, но правильной
стране.
И знали, разобраться не умея
И путаясь во множестве вещей,
Что все пути вперед лишь
только с нею,
А без нее их нету вообще.
Я пью за свою Россию,
С простыми людьми я пью.
Они ничего не знают
Про страшную жизнь мою.
Про то, что рожден на гибель
Каждый мой лучший стих…
Они ничего не знают,
А эти стихи — для них.
С простыми людьми я пью.
Они ничего не знают
Про страшную жизнь мою.
Про то, что рожден на гибель
Каждый мой лучший стих…
Они ничего не знают,
А эти стихи — для них.
Н. Коржавин (1959 г.)
С конца 1950-х годов Коржавин публиковал стихи в периодике, писал критические статьи, занимался переводами. Только в условиях оттепели он смог обратиться к массовому читателю. Первая значительная публикация, которая принесла Коржавину признание и славу большого поэта, относится к 1961 году. В альманахе «Тарусские страницы» — знаменитом литературном сборнике, ставшем вехой «оттепельной» литературы, — появилась обширная подборка коржавинских стихов. А через два года под редакцией Е.М. Винокурова был издан сборник «Годы», в который вошли 54 стихотворения. Благодаря внутренней свободе и особой коржавинской интонации книга мгновенно разошлась среди читателей, ощутивших, что в поэзии появилось новое значимое имя.
В 1960-х годах Коржавин выступал в защиту «узников совести» Даниэля и Синявского, Галанскова и Гинзбурга, за обсуждение письма Александра Солженицына «IV Всесоюзному съезду Союза советских писателей», против существовавшей в СССР цензуры. Острой сатирой поэт откликался на ситуацию в мире и в стране: стихи, посвященные венгерским событиям и «пражской весне», распространялись в самиздате («Баллада о собственной гибели», 1956; «Судьба считает наши вины», 1968; «Памяти Герцена, или баллада об историческом недосыпе», 1969). Все это привело к тому, что Коржавина запретили публиковать. А к началу 1970-х годов остро встал вопрос об эмиграции: поэта «вели» свидетелем по делу о самиздате. Тогда же стихи Коржавина были напечатаны в журнале «Грани» издательства «Посев» (НТС). Опальный поэт не хотел покидать Родину, мучился, негодовал:
Иль впрямь я разлюбил свою
страну? —
Смерть без нее и с ней мне жиз-
ни нету.
Сбежать? Нелепо.
Не поможет это…
Иль впрямь я разлюбил свою
страну? —
Смерть без нее и с ней мне жиз-
ни нету.
Сбежать? Нелепо.
Не поможет это…
(1972)
Однако в 1973 году, после очередного допроса, Коржавин подает заявление на выезд. И в 1974 году он обосновывается в Бостоне, в США.
Наум Коржавин в эмиграции, как всегда и везде — и в Москве, и в ссылке, — остается верным себе: внимательно наблюдает, что происходит на Родине, размышляет о ее трагическом прошлом и исторической судьбе. Почти во всех коржавинских стихах периода эмиграции видна его неразрывная связь с Россией, сквозит чувство вины и покаяние. Так, в сборнике «Времена» поэт впервые печатает знаменитую поэму «Наивность», которая ярко демонстрирует тягу к правдоискательству, к размышлениям о природе нравственного. Мучительно осмысляя роль личности в истории России, он восклицает:
Грех кровь пролить из веры
в чудо,
А кровь чужую — грех вдвойне.
А я молчал…
Но впредь — не буду:
Пока молчу — та кровь на мне.
Наум Коржавин в эмиграции, как всегда и везде — и в Москве, и в ссылке, — остается верным себе: внимательно наблюдает, что происходит на Родине, размышляет о ее трагическом прошлом и исторической судьбе. Почти во всех коржавинских стихах периода эмиграции видна его неразрывная связь с Россией, сквозит чувство вины и покаяние. Так, в сборнике «Времена» поэт впервые печатает знаменитую поэму «Наивность», которая ярко демонстрирует тягу к правдоискательству, к размышлениям о природе нравственного. Мучительно осмысляя роль личности в истории России, он восклицает:
Грех кровь пролить из веры
в чудо,
А кровь чужую — грех вдвойне.
А я молчал…
Но впредь — не буду:
Пока молчу — та кровь на мне.
А на начало военной операции в Афганистане откликается «Поэмой причастности» (1981–1982):
«Мы!» — твержу самовольно,
Приобщаясь к погостам,
От стыда и от боли
Не спасет меня Бостон…
Мы!.. Сбежать от бесчестья —
Чушь… Пустая затея…
Мы виновны все вместе
Пред Россией и с нею.
Поэт с горечью описывает свою эмигрантскую судьбу, иногда прибегая к трагическим метафорам, сравнивая себя с «китом на песке» («В американском доме творчества»), порой прямо говоря о «чужой свободе» («Здесь чужою свободой // Щедро я наделен»), признаваясь: «Все равно не хватает // Мне свободы своей». Тем не менее он по-прежнему полон решимости «…быть в чужой стране // Самим собой».
«Мы!» — твержу самовольно,
Приобщаясь к погостам,
От стыда и от боли
Не спасет меня Бостон…
Мы!.. Сбежать от бесчестья —
Чушь… Пустая затея…
Мы виновны все вместе
Пред Россией и с нею.
Поэт с горечью описывает свою эмигрантскую судьбу, иногда прибегая к трагическим метафорам, сравнивая себя с «китом на песке» («В американском доме творчества»), порой прямо говоря о «чужой свободе» («Здесь чужою свободой // Щедро я наделен»), признаваясь: «Все равно не хватает // Мне свободы своей». Тем не менее он по-прежнему полон решимости «…быть в чужой стране // Самим собой».
«…Все же, как думаю, одно положительное качество у меня было: я писал и говорил правду, я всегда интересовался тем, что для меня правда и почему это правда».
Н. Коржавин.
«Опыт внутренней биографии» (1968 г.)
Примечательно, что Коржавин не причисляет себя к литературной эмиграции «третьей волны», ему чуждо и характерное для эмигрантов третьей волны отторжение от старой русской эмиграции с ее концепцией Зарубежной России, и неприятие американской культуры. Он был одним из немногих, кто сблизился с представителями первой волны. Начиная с 1975 года в течение нескольких десятилетий Наум Моисеевич и его супруга Любовь Верная (коржавинский ангел-хранитель и неизменный редактор) сотрудничали с Русской летней школой при Норвичском университете (Вермонт), созданной старой эмиграцией. Наум Коржавин использовал любую возможность для популяризации русской литературы: выступал как на научных конференциях, так и перед студентами, считая, что младшее поколение важно наставлять «в правде себе признаваться». С ним никогда не было скучно, он боролся с так называемой инерцией стиля, об угрозе которой предупреждал еще в 1960 году:
Стиль — это мужество.
В правде себе признаваться
Все потерять, но иллюзиям не
предаваться —
Кем бы ни стать — ощущать
себя только собою,
Даже пускай твоя жизнь ока-
залась пустою,
Даже пускай в тебе сердца те-
перь уже мало…
Правда конца — это тоже воз-
можность начала.
Кто осознал пораженье, —
того не разбили…
Самое страшное — это инер-
ция стиля.
Стиль — это мужество.
В правде себе признаваться
Все потерять, но иллюзиям не
предаваться —
Кем бы ни стать — ощущать
себя только собою,
Даже пускай твоя жизнь ока-
залась пустою,
Даже пускай в тебе сердца те-
перь уже мало…
Правда конца — это тоже воз-
можность начала.
Кто осознал пораженье, —
того не разбили…
Самое страшное — это инер-
ция стиля.
Можно предположить, что именно это стремление меняться вместе с жизнью в поисках ее смысла и привело стихийного безбожника к принятию христианской веры. Если в стихотворении «Церковь на Нерли» (1954) поэт говорит о глубокой непоказной вере предков:
И глядишь доступно и строго,
И слегка синеешь вдали…
Видно, предки верили в Бога,
как в простую правду земли, —
то позже, в эмиграции, он прямо обращается к Богу: «Прошу покоя у Тебя, Господь» (1974). Спустя два десятилетия, в 1991 году, во время одной из поездок в Москву Коржавин принял таинство крещения. «И то, что я недавно крестился, — поделится он с читателями в своих мемуарах, — естественный итог всей моей жизни» (мемуары «В соблазнах кровавой эпохи»).
И глядишь доступно и строго,
И слегка синеешь вдали…
Видно, предки верили в Бога,
как в простую правду земли, —
то позже, в эмиграции, он прямо обращается к Богу: «Прошу покоя у Тебя, Господь» (1974). Спустя два десятилетия, в 1991 году, во время одной из поездок в Москву Коржавин принял таинство крещения. «И то, что я недавно крестился, — поделится он с читателями в своих мемуарах, — естественный итог всей моей жизни» (мемуары «В соблазнах кровавой эпохи»).
«У Коржавина все проникнуто сердечной простотой».
А.И. Солженицын
Свою позицию по отношению к истории ХХ века поэт выразил фразой: «Все время напоминать себе и другим, что дважды два — четыре». Важно отметить, что в публицистике 1990–2000-х годов Наум Коржавин выступает против крайностей идеологии коммунизма и радикального либерализма. В спорах «русофобов» и «русофилов» он занимает «русофильскую» позицию. В частности, в литературоведческих статьях он отстаивает ценности классической русской культуры с ее христианскими принципами. Отмечает «органическую связь искусства с Высоким и Добрым». Если нет стремления к гармонии, считает поэт, искусство превращается в простое самоутверждение. С этих позиций Коржавин пересматривал наследие Серебряного века, высказывая упреки даже в адрес А.А. Блока («Игра с дьяволом») и А.А. Ахматовой («Анна Ахматова и Серебряный век»). Иронизирует автор и над культом Иосифа Бродского, вступая в спор со Львом Лосевым, известным литературоведом и биографом Бродского («Генезис “стиля опережающей гениальности”, или миф о великом Бродском»).
«Урок Коржавина — это урок верности своему призванию».
О.Г. Чухонцев, поэт (2016 г.)
Коржавин, оглядываясь на прожитую жизнь, необходимой составляющей своего творческого «я» называет мужество. По его мнению, для поэта прежде всего важно умение «чувствовать самого себя и поэзию, на ходу отделять в себе от своего же чувства то, что не относится к возникшему в нем замыслу, к поэзии. Ведь все это надо решить самому, и все это всегда на краю провала — как же тут без мужества?» (мемуары «В соблазнах кровавой эпохи»).
Коржавин — один из первых поэтов-эмигрантов, чьи стихи стали публиковаться в советских журналах в перестроечное время — с 1988 года, а его первый сборник, изданный на Родине в эпоху гласности, назывался «Письмо в Москву» (библиотека «Огонек», № 37, 1991). Потом одна за другой стали выходить его книги: стихотворные сборники «Время дано» (1992), «К себе» (2000), «Стихи и поэмы» (2004), «На скосе века» (2008), сборник критических статей «В защиту банальных истин» (2003) и книга воспоминаний «В соблазнах кровавой эпохи» (2005).
Коржавин приехал в Москву после 13 эмигрантских лет осенью 1989 года. Столица встретила любимого поэта с радостью и готовностью к сотрудничеству. Потом приезды повторялись неоднократно. Его награждали высокими литературными премиями. Обаятельная искренность, неизменная верность себе, легендарная трезвость ума и неиссякаемость таланта Наума Моисеевича всегда вызывали благодарность и любовь его читателей. «Трезвость эта, — писал полвека назад Коржавин в обращении к читателям «закордонного» сборника «Времена», — относится не только к ощущению политической или исторической реальности, а прежде всего к трезвому ощущению шкалы человеческих ценностей и извечной трагедии жизни».
О необходимости этого трезвого взгляда на себя и на жизнь поэт писал еще в середине прошлого века в знаменитом «Вступлении в поэму», звучащем сегодня как напутствие:
Время дано.
Это не подлежит обсужденью.
Подлежишь обсуждению ты,
разместившийся в нем.
Скончался Наум Коржавин 22 июня 2018 года в Дареме (штат Северная Каролина, США). Его
прах захоронен в Москве, на Ваганьковском кладбище.
Коржавин приехал в Москву после 13 эмигрантских лет осенью 1989 года. Столица встретила любимого поэта с радостью и готовностью к сотрудничеству. Потом приезды повторялись неоднократно. Его награждали высокими литературными премиями. Обаятельная искренность, неизменная верность себе, легендарная трезвость ума и неиссякаемость таланта Наума Моисеевича всегда вызывали благодарность и любовь его читателей. «Трезвость эта, — писал полвека назад Коржавин в обращении к читателям «закордонного» сборника «Времена», — относится не только к ощущению политической или исторической реальности, а прежде всего к трезвому ощущению шкалы человеческих ценностей и извечной трагедии жизни».
О необходимости этого трезвого взгляда на себя и на жизнь поэт писал еще в середине прошлого века в знаменитом «Вступлении в поэму», звучащем сегодня как напутствие:
Время дано.
Это не подлежит обсужденью.
Подлежишь обсуждению ты,
разместившийся в нем.
Скончался Наум Коржавин 22 июня 2018 года в Дареме (штат Северная Каролина, США). Его
прах захоронен в Москве, на Ваганьковском кладбище.
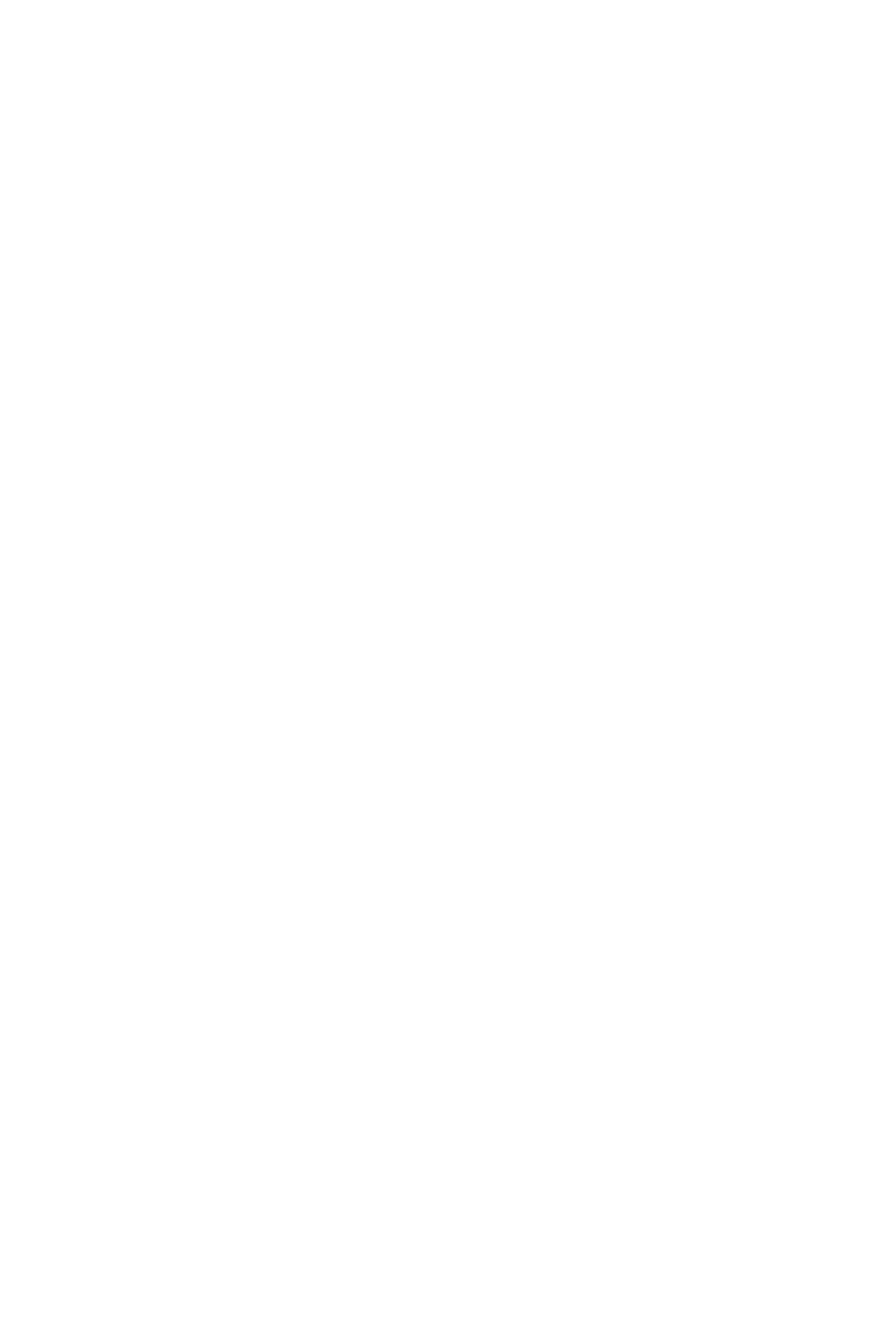
Нью-Йорк, Нью-Йорк…
Почти половину своей долгой жизни Наум Коржавин прожил в эмиграции, в США, обосновавшись в Бостоне, самом европейском из американских городов. Не раз бывал он и в Нью-Йорке, который упомянул в своей «Поэме причастности»