Поплавки судьбы
Борис Вячеславович
Корвин-Круковский
(1895–1988)
Корвин-Круковский
(1895–1988)
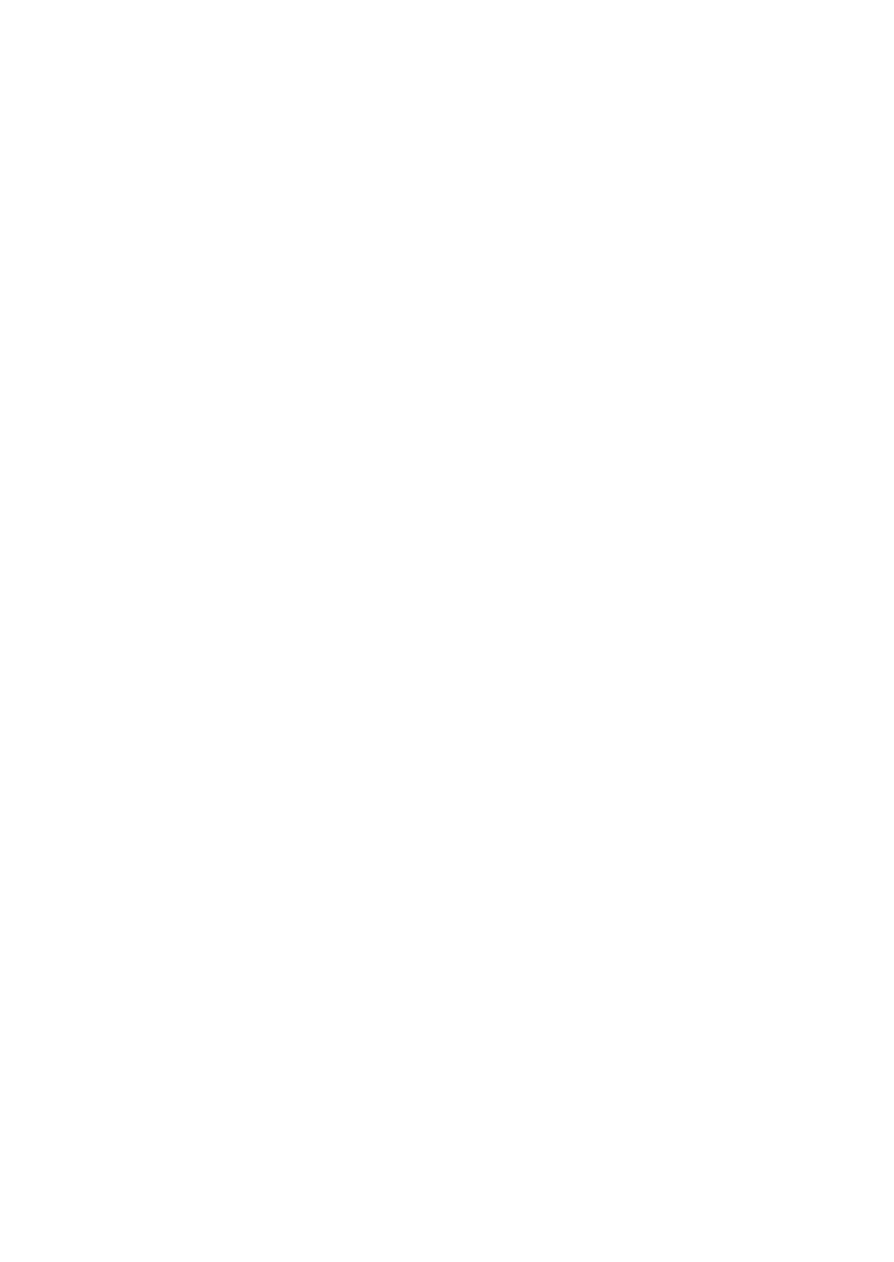
Испытание небом
Бывший летчик стал американским авиаконструктором, а затем и одним из ведущих специалистов по теории корабля. Однако навсегда сохранил в сердце любовь к самолетам,
консультируя разработчиков практически всех летающих лодок США до начала 1960-х годов
Бывший летчик стал американским авиаконструктором, а затем и одним из ведущих специалистов по теории корабля. Однако навсегда сохранил в сердце любовь к самолетам,
консультируя разработчиков практически всех летающих лодок США до начала 1960-х годов
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
6 (18) февраля 1895 г. — родился в г. Щацке Тамбовской губернии
Апрель 1915 г. — окончил Военную авиашколу в Гатчине
Октябрь 1915 г. — начал совершать боевые полеты
Апрель 1918 г. — эмиграция из России
1920-е гг. — работал в американских компаниях «Кертис Эрплейн энд Моторз», «Аэромарин Плейн энд Мотор», «Консолидейтед Эркрафт»
1925–1948 гг. — был вице-президентом и главным конструктором фирмы «ИДО Корпорейшн»
1948–1959 гг. — был преподавателем, а затем профессором Стивенсоновского технологического института
20 июня 1988 г. — скончался в собственном имении под Рендольфом, штат Вермонт
6 (18) февраля 1895 г. — родился в г. Щацке Тамбовской губернии
Апрель 1915 г. — окончил Военную авиашколу в Гатчине
Октябрь 1915 г. — начал совершать боевые полеты
Апрель 1918 г. — эмиграция из России
1920-е гг. — работал в американских компаниях «Кертис Эрплейн энд Моторз», «Аэромарин Плейн энд Мотор», «Консолидейтед Эркрафт»
1925–1948 гг. — был вице-президентом и главным конструктором фирмы «ИДО Корпорейшн»
1948–1959 гг. — был преподавателем, а затем профессором Стивенсоновского технологического института
20 июня 1988 г. — скончался в собственном имении под Рендольфом, штат Вермонт
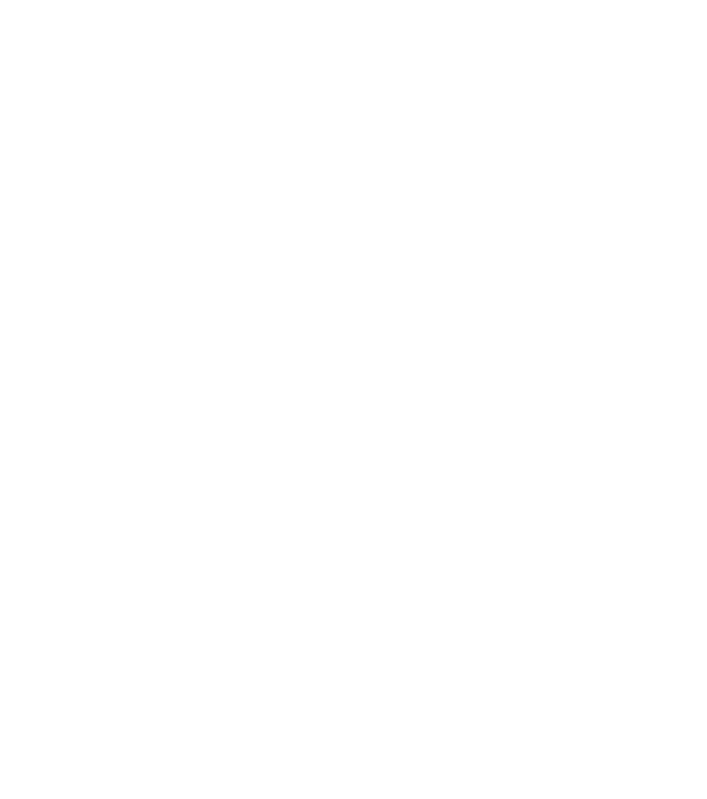
Б.В. Корвин-Круковский. 1916 г.
В одном из старых альбомов чудом сохранились снимки служащих 6-го корпусного авиаотряда. Русские авиаторы Великой войны смотрят на нас в объектив сквозь столетие. Среди них —военный летчик Борис Корвин-Круковский, в будущем известный инженер и конструктор. Об этом выдающемся человеке написано немало статей и книг, но далеко не все факты его биографии получили освещение, далеко не все нам известно о его жизни в России и в эмиграции.
Борис Вячеславович Корвин-Круковский появился на свет 6 (18) февраля 1895 года в г. Щацке Тамбовской губернии. Его отец, Вячеслав Иосифович, потомственный военный, принадлежал к древнему польско-литовскому роду Корвин-Круковских, командовал ротой запасного батальона (в 1910 году в чине подполковника служил в 139-м пехотном Моршанском полку), мать, Серафима Алексеевна, в девичестве носила фамилию Стрельникова. Кроме Бориса в семье было еще два брата, Кирилл и Андрей (погибшие во время Гражданской войны), и сестра Наталья.
Борис получил отличное военное образование: В Санкт-Петербурге окончил 1-й кадетский корпус, затем Николаевское военное инженерное училище, откуда был выпущен подпоручиком инженерных войск. Сразу же по окончании училища, в сентябре 1914 года, молодой офицер был принят в Высшую авиационную школу в Гатчине. Обучение полетам началось на аэроплане «Фарман-IV» (так называемой этажерке).
Борис Вячеславович Корвин-Круковский появился на свет 6 (18) февраля 1895 года в г. Щацке Тамбовской губернии. Его отец, Вячеслав Иосифович, потомственный военный, принадлежал к древнему польско-литовскому роду Корвин-Круковских, командовал ротой запасного батальона (в 1910 году в чине подполковника служил в 139-м пехотном Моршанском полку), мать, Серафима Алексеевна, в девичестве носила фамилию Стрельникова. Кроме Бориса в семье было еще два брата, Кирилл и Андрей (погибшие во время Гражданской войны), и сестра Наталья.
Борис получил отличное военное образование: В Санкт-Петербурге окончил 1-й кадетский корпус, затем Николаевское военное инженерное училище, откуда был выпущен подпоручиком инженерных войск. Сразу же по окончании училища, в сентябре 1914 года, молодой офицер был принят в Высшую авиационную школу в Гатчине. Обучение полетам началось на аэроплане «Фарман-IV» (так называемой этажерке).
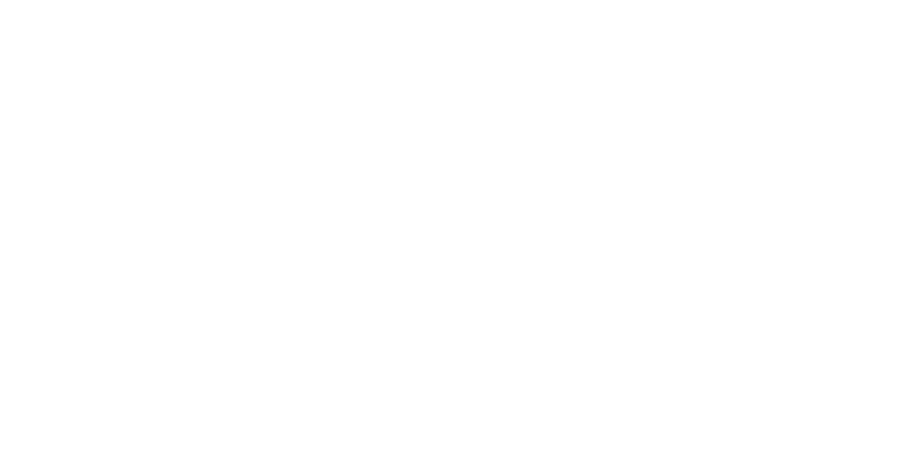
Здание 1-го кадетского корпуса в Санкт-Петербурге. Начало XX в.
6 апреля 1915 года Борис «выдержал полетные испытания» и через десять дней был удостоен звания «военный летчик». Согласно приказу начальника Генерального штаба и в соответствии с предписаниями, содержащимися в телеграмме великого князя Александра Михайловича, новоиспеченный летчик отправился в августе 1915-го из Гатчины на фронт. Корвин-Круковский был определен в 6-й корпусной авиаотряд, которым командовал штабс-капитан И.С. Стрельников. Отряд воевал на Северо-Западном фронте и подчинялся в оперативном отношении штабу 4-й армии. На вооружении 6-го корпусного состояли французские двухместные высокопланы «Моран-Парасоль», оснащенные 80-сильными ротативными моторами. Как и все аппараты того времени, «Парасоль» был аэропланом с деревянным каркасом и полотняной обшивкой. Из-за слабости мотора и маленькой грузоподъемности на «Мораны», как правило, пулеметы не ставились, и авиаторы защищались от воздушного противника лишь своим личным оружием. Подпоручик Корвин-Круковский смог впервые подняться в воздух лишь 20 сентября: за несколько практических полетов он быстро освоил новый тип аппарата.
Первый боевой вылет Бориса состоялся 1 октября 1915 года. В тот день он вместе с прапорщиком Конради вылетел на «Моран-Парасоле» для «фактического преследования немецкого аэроплана». За 55 минут полета противник не был встречен. Не всегда такие вылеты заканчивались благополучно для наших авиаторов, смело вылетавших против неприятеля с одним лишь личным оружием (пистолетом «маузер»).
Для военного летчика Корвин-Круковского началась трудная и опасная боевая служба. Бомбометание, разведка и фотографирование — такие основные задачи ставили перед отрядом штабы корпусов и 4-й армии. Тихоходный аэроплан забирался на боевую высоту в 2400–2500 м и кружил над территорией противника, выискивая окопы, замаскированные батареи и стоянки. Внимательно отслеживалось движение войсковых частей, обозов и составов неприятеля. Когда нужно было фотографировать позиции, аэроплану приходилось снижаться на опасную высоту в 1200–1400 м, куда мог достать наземный огонь. Авиаторы так и болтались под разрывами бризантных снарядов, ожидая гибели в любую секунду, пока не выполняли поставленную задачу. Вот, например, что значилось в донесении Корвина-Круковского о полете 22 января 1916 года: «Очень хорошо наезжено шоссе от города Новогрудка на станцию Новоельня. Вообще на своем районе разведки передвижение войск и обозов не замечено. Сделаны фотографические снимки позиции от деревни Красковские горы до местечка Делятичи. Аппарат был обстрелян артиллерийским огнем противника в районе местечка Любча, деревни Коровщина и в районе деревни Валевка, что севернее озера Свитязь. Продолжительность полета 2 часа 50 минут».
Для военного летчика Корвин-Круковского началась трудная и опасная боевая служба. Бомбометание, разведка и фотографирование — такие основные задачи ставили перед отрядом штабы корпусов и 4-й армии. Тихоходный аэроплан забирался на боевую высоту в 2400–2500 м и кружил над территорией противника, выискивая окопы, замаскированные батареи и стоянки. Внимательно отслеживалось движение войсковых частей, обозов и составов неприятеля. Когда нужно было фотографировать позиции, аэроплану приходилось снижаться на опасную высоту в 1200–1400 м, куда мог достать наземный огонь. Авиаторы так и болтались под разрывами бризантных снарядов, ожидая гибели в любую секунду, пока не выполняли поставленную задачу. Вот, например, что значилось в донесении Корвина-Круковского о полете 22 января 1916 года: «Очень хорошо наезжено шоссе от города Новогрудка на станцию Новоельня. Вообще на своем районе разведки передвижение войск и обозов не замечено. Сделаны фотографические снимки позиции от деревни Красковские горы до местечка Делятичи. Аппарат был обстрелян артиллерийским огнем противника в районе местечка Любча, деревни Коровщина и в районе деревни Валевка, что севернее озера Свитязь. Продолжительность полета 2 часа 50 минут».
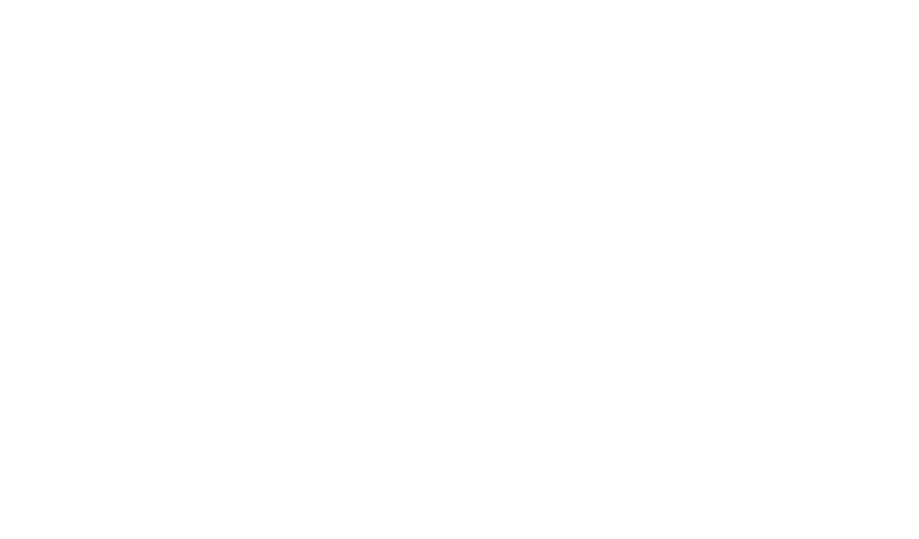
Биплан «Фарман-XVI» («боевой»), на котором Б.П. Корвин-Круковский сдал экзамен на звание «военный летчик». 1910-е гг.
За произведенные разведывательные полеты подпоручик Корвин-Круковский в апреле 1916 года был представлен к награждению орденом св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. До мая Борис совершил 32 полета (из них 15 боевых, остальные — перелеты, практические и пробные). 33-й стал для него последним в военной карьере пилота.
Летчик 2-го корпусного авиаотряда Петр Крисанов оставил запись о том трагическом полете Корвин-Круковского: «7-го мая. Целый день дождь, тоска. К вечеру дождь перестал, и говорят, что из-за облаков вылезал немец и бросал куда-то бомбы. Батареи успевали выпускать два снаряда, как он исчезал опять в облаках, на 500 метрах. В 6-м корпавиотряде вчера летчик Корвин-Круковский на Парасоле с наблюдателем в бою с Альбатросом был ранен в руку разрывной пулей. Идя с мотором вниз и желая остановить его, он зажал ручку управления ногами и стал закрывать здоровой рукой газ. Ручка вырвалась, и Парасоль стал кувыркаться в воздухе. Наблюдатель стал вываливаться. Лопнули ремни, он оборвал растяжки и вывалился — убился. Летчик остался жив, попав к проволочным заграждениям, откуда его спасли наши солдаты. Думается мне, что сбил их встреченный мною немец».
Летчик 2-го корпусного авиаотряда Петр Крисанов оставил запись о том трагическом полете Корвин-Круковского: «7-го мая. Целый день дождь, тоска. К вечеру дождь перестал, и говорят, что из-за облаков вылезал немец и бросал куда-то бомбы. Батареи успевали выпускать два снаряда, как он исчезал опять в облаках, на 500 метрах. В 6-м корпавиотряде вчера летчик Корвин-Круковский на Парасоле с наблюдателем в бою с Альбатросом был ранен в руку разрывной пулей. Идя с мотором вниз и желая остановить его, он зажал ручку управления ногами и стал закрывать здоровой рукой газ. Ручка вырвалась, и Парасоль стал кувыркаться в воздухе. Наблюдатель стал вываливаться. Лопнули ремни, он оборвал растяжки и вывалился — убился. Летчик остался жив, попав к проволочным заграждениям, откуда его спасли наши солдаты. Думается мне, что сбил их встреченный мною немец».
«До конца своей жизни он (Б.В. Корвин-Круковский. — Ред.) прекрасно изъяснялся на родном языке, был глубоко верующим православным человеком, большим патриотом России и видным деятелем русской общины в США. Прославленный летчик Первой мировой войны, проливший кровь на поле, Корвин-Круковский пользовался большой известностью среди русских изгнанников. Талантливый, высококультурный и обаятельный человек, всегда готовый помочь нуждающемуся соотечественнику, он был одним из лидеров русской авиационной эмиграции в межвоенные годы».
С.И. Сикорский, летчик, сын авиаконструктора
И.И. Сикорского (2002 г.)
Что же произошло 6 мая 1916 года? В тот день экипаж «Моран-Парасоля» в составе пилота подпоручика Корвина-Круковского и наблюдателя подпоручика Киренского вылетел в 6 часов утра на разведку района Сутково — Огородники — Солы — Сморгонь — Домаши. «Подлетая к Огородникам, аппарат был настигнут немецким “Альбатросом”, который у полустанка Гауцевичи решил дать воздушный бой нашему аппарату, зная заранее о безоружности того, приблизился на короткую дистанцию и стал безнаказанно расстреливать наш аппарат, — кратко записал в полетном донесении со слов Корвин-Круковского командир 6-го отряда капитан Стрельников. — Результатом обстрела было ранение подпоручика Корвин-Круковского в левую руку и вследствие трюков… аппарата после потери управления выпал из аппарата наблюдатель подпоручик Киренский и разбился насмерть».
В то злосчастное утро наши авиаторы перелетели позиции противника у местечка Крево и направились на местечко Боруны. У деревни Огородники они заметили преследовавший их немецкий «Альбатрос». Противник, обладая бóльшей скоростью, несколько раз сближался с нашим аэропланом, и наконец у разъезда Гауцы, подойдя к «Парасолю» весьма близко, резко уклонился вправо и открыл пулеметный огонь. Первой же очередью германский наблюдатель прострелил Корвин-Круковскому левую руку и той же пулей слегка царапнул колени обеих ног. Борис как раз управлял этой рукой и от болевого шока выпустил ручку, а его «Моран» резко взлетел кверху. Кое-как раненому летчику удалось правой рукой привести аппарат в надлежащее положение и тянуть через позиции с желанием поскорее опуститься. Рычаг управления вновь выскользнул, и чуткая в управлении машина спикировала вниз. Корвин-Круковскому с большим трудом удалось опуститься вблизи деревни Сукневичи. «Первым долгом, не оборачиваясь, летчик обратился к наблюдателю подпоручику Киренскому и, не получая ответа, обернулся. Трудно представить, с каким ужасом он увидел пустое место наблюдателя. Сначала он предположил, что подпоручик Киренский выпал в момент его ранения, когда им было потеряно управление аппаратом, но впоследствии выяснилось, что тело подпоручика Киренского было найдено недалеко от места спуска аппарата перед проволочными заграждениями 254-го пехотного Николаевского полка», — говорилось в донесении. При осмотре в правой стороне фюзеляжа обнаружили четыре пулевых пробоины, причем одна была против сидения пилота на высоте рукоятки управления, «которой и был ранен военный летчик подпоручик Корвин-Круковский в левую руку навылет». Другие четыре пули прошили правое крыло.
Раненый Корвин-Круковский был направлен на лечение в лазарет ее величества императрицы Марии Федоровны в Гатчине. Почти четыре месяца провел Борис на лазаретной койке. За это время он был переведен в управление Военного воздушного флота на штатную должность члена испытательной комиссии главного аэро дрома. В сентябре 1916 года он приступил к своим обязанностям. Через несколько месяцев Корвин-Круковский был назначен обучающим офицером (инструктором) в Высшую авиа ционную школу в Гатчине. Помимо ордена св. Станислава он был награжден орденами св. Анны и св. Владимира 4-х степеней.
Раненый Корвин-Круковский был направлен на лечение в лазарет ее величества императрицы Марии Федоровны в Гатчине. Почти четыре месяца провел Борис на лазаретной койке. За это время он был переведен в управление Военного воздушного флота на штатную должность члена испытательной комиссии главного аэро дрома. В сентябре 1916 года он приступил к своим обязанностям. Через несколько месяцев Корвин-Круковский был назначен обучающим офицером (инструктором) в Высшую авиа ционную школу в Гатчине. Помимо ордена св. Станислава он был награжден орденами св. Анны и св. Владимира 4-х степеней.
«Борис Вячеславович очень быстро добился успеха в инженерно-авиационном поприще, одним из первых достиг заметных высот и стабильного положения в зарождавшемся американском самолето-строительном бизнесе. Он помог многим россиянам также найти работу, получить специальность или открыть собственное дело».
С.И. Сикорский, летчик, сын авиаконструктора И.И. Сикорского (2002 г.)
Целый год Борис занимал должность инструктора (руководителя) в школе, пока в декабре 1917-го не убыл «в отпуск» во Владивосток, откуда весной 1918 года отправился в США. Так закончился один этап жизни русского военного летчика Корвина-Круковского и начался другой — уже в чужой стране.
В эмиграции Борис Вячеславович добился небывалых высот в авиастроении. Благодаря Фонду помощи русским студентам он смог получить образование в Массачусетском технологическом институте. Затем последовала работа чертежником с небольшой зарплатой в «Кертис Эрплейн энд Моторз компани» на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, а с 1921 года — в авиастроительной фирме «Аэромарин Плейн энд Мотор компани» (штат Нью-Джерси). В 1924 году эта компания, в которой Корвин-Круковский был начальником конструкторского отдела, построила легкую летающую лодку специально для бизнесмена Эрла Осборна, что произвело на заказчика сильное впечатление.
В эмиграции Борис Вячеславович добился небывалых высот в авиастроении. Благодаря Фонду помощи русским студентам он смог получить образование в Массачусетском технологическом институте. Затем последовала работа чертежником с небольшой зарплатой в «Кертис Эрплейн энд Моторз компани» на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, а с 1921 года — в авиастроительной фирме «Аэромарин Плейн энд Мотор компани» (штат Нью-Джерси). В 1924 году эта компания, в которой Корвин-Круковский был начальником конструкторского отдела, построила легкую летающую лодку специально для бизнесмена Эрла Осборна, что произвело на заказчика сильное впечатление.
В 1925 году Осборн основывает свою компанию EDO (Earl Dodge Osborn) и приглашает Бориса Вячеславовича на должность главного конструктора. Корвин-Круковский более 20 лет проработал в EDO. Ему удалось найти оригинальные инженерные решения, которые сделали эту компанию крупнейшим производителем поплавков для гидросамолетов. Благодаря новому инновационному решению (колеса шасси герметично убирались внутрь поплавка), использованию алюминия, а не дерева, с отработанными режимами сварки деталей днища, оригинальной конструкции водного замка, а также дефициту твердосплавных взлетно-посадочных полос спрос на поплавки системы Корвин-Круковского в 1920-е годы быстро вырос. Это помогло компании успешно пережить годы Великой депрессии.
В 1928 году Корвин-Круковский помог своему коллеге Игорю Сикорскому основать первый авиационный завод в Колледж-Пойнте. А в начале 1930-х оказал поддержку другому соотечественнику — Прокофьеву-Северскому — в его усилиях по созданию самолетостроительной фирмы «Северски Эйркрафт» (впоследствии «Рипаблик»).
В 1948 году Корвин-Круковский начинает заниматься вопросами гидродинамики. Он покинул фирму EDO и перешел в Стивенсоновский технологический институт в Хобокене (штат Нью-Джерси). Сначала он занимался там лабораторными исследованиями, а затем преподаванием курса «Гидродинамика морских самолетов», хотя формально не имел ученой степени. Этот курс был настолько популярным, что Корвин-Круковский читал его и для офицеров ВМФ США. В 1961 году был опубликован его научный труд «Теория остойчивости», переведенный на несколько иностранных языков. В 1970 году Борис Вячеславович был награжден престижной медалью Дэвидсона с формулировкой «За выдающиеся достижения в исследованиях по теории корабля».
Выйдя на пенсию, Борис Вячеславович поселился на севере США, в штате Вермонт. Он любил все мастерить своими руками. В небольшом имении он построил баню, оранжерею, сад и домик-шале. Последние пять лет своей жизни, будучи парализованным, передвигался на электрическом кресле, спроектированном самостоятельно. В течение многих лет он писал по-русски дневники и интересовался событиями на своей бывшей Родине.
Корвин-Круковский скончался в возрасте 93 лет. Он завещал, чтобы тело его было кремировано и прах развеян над его имением.
В 1928 году Корвин-Круковский помог своему коллеге Игорю Сикорскому основать первый авиационный завод в Колледж-Пойнте. А в начале 1930-х оказал поддержку другому соотечественнику — Прокофьеву-Северскому — в его усилиях по созданию самолетостроительной фирмы «Северски Эйркрафт» (впоследствии «Рипаблик»).
В 1948 году Корвин-Круковский начинает заниматься вопросами гидродинамики. Он покинул фирму EDO и перешел в Стивенсоновский технологический институт в Хобокене (штат Нью-Джерси). Сначала он занимался там лабораторными исследованиями, а затем преподаванием курса «Гидродинамика морских самолетов», хотя формально не имел ученой степени. Этот курс был настолько популярным, что Корвин-Круковский читал его и для офицеров ВМФ США. В 1961 году был опубликован его научный труд «Теория остойчивости», переведенный на несколько иностранных языков. В 1970 году Борис Вячеславович был награжден престижной медалью Дэвидсона с формулировкой «За выдающиеся достижения в исследованиях по теории корабля».
Выйдя на пенсию, Борис Вячеславович поселился на севере США, в штате Вермонт. Он любил все мастерить своими руками. В небольшом имении он построил баню, оранжерею, сад и домик-шале. Последние пять лет своей жизни, будучи парализованным, передвигался на электрическом кресле, спроектированном самостоятельно. В течение многих лет он писал по-русски дневники и интересовался событиями на своей бывшей Родине.
Корвин-Круковский скончался в возрасте 93 лет. Он завещал, чтобы тело его было кремировано и прах развеян над его имением.
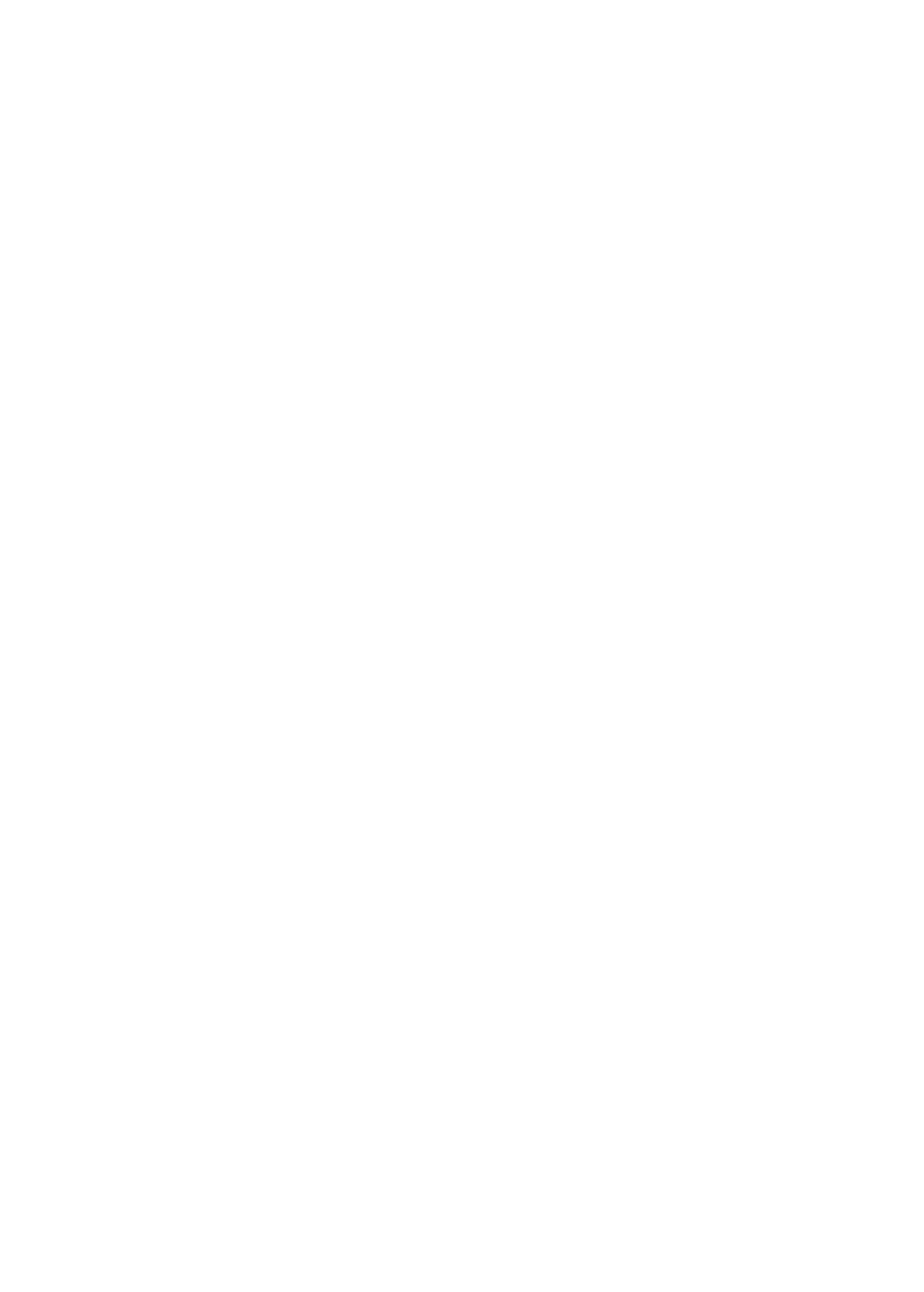
В небе над «Свободой»
Русские инженеры и летчики имели прекрасную подготовку и значительный опыт работы в промышленности или эксплуатации авиатехники. Репутация их была настолько высока, что инвесторы новых американских предприятий зачастую требовали, чтобы половина инженеров были русскими