В пушкинском духе
Владислав Фелицианович Ходасевич
(1886–1939)
(1886–1939)
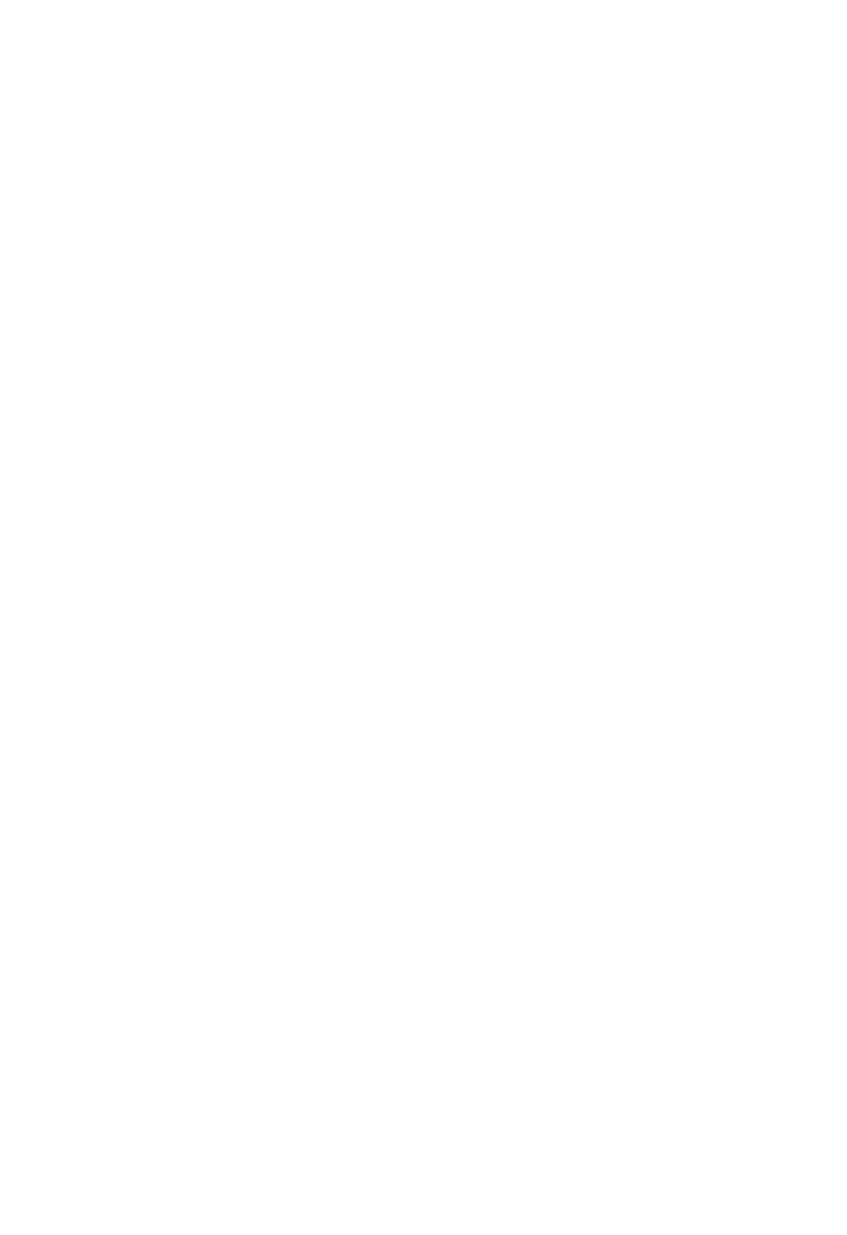
Всплеск популярности
Как пишет, литературовед князь Дмитрий Святополк-Мирский, Ходасевич прославился в «страшные 1919–1920 годы, когда от ужасов Гражданской войны у интеллигенции уже не существующей страны — Российской империи, появлялось сильное депрессивное настроение». Именно остроумные мистические стихи Ходасевича «с колкими эпиграммами» «четко описывали суть происходящего вокруг них»
Как пишет, литературовед князь Дмитрий Святополк-Мирский, Ходасевич прославился в «страшные 1919–1920 годы, когда от ужасов Гражданской войны у интеллигенции уже не существующей страны — Российской империи, появлялось сильное депрессивное настроение». Именно остроумные мистические стихи Ходасевича «с колкими эпиграммами» «четко описывали суть происходящего вокруг них»
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
16 (28) мая 1886 г. — родился в Москве, стал в семье шестым и последним ребенком
Март 1905 г. — первые стихи напечатаны в альманахе «Гриф»
1908 г. — выход первой книги стихов «Молодость»
1914 г. — печать второго поэтического сборника «Счастливый домик» с посвящением «Жене моей Анне»
1920 г. — публикация «Путем зерна»
22 июня 1922 г. — вместе с Н.Н. Берберовой выехал из России в Берлин; издание книги «Тяжелая лира»
1927 г. — печать последнего сборника стихов «Европейская ночь»
1931 г. — публикация книги «Державин»
1937 г. — издание «О Пушкине»
1939 г. — выход «Некрополя»
14 июня 1939 г. — скончался в Париже
16 (28) мая 1886 г. — родился в Москве, стал в семье шестым и последним ребенком
Март 1905 г. — первые стихи напечатаны в альманахе «Гриф»
1908 г. — выход первой книги стихов «Молодость»
1914 г. — печать второго поэтического сборника «Счастливый домик» с посвящением «Жене моей Анне»
1920 г. — публикация «Путем зерна»
22 июня 1922 г. — вместе с Н.Н. Берберовой выехал из России в Берлин; издание книги «Тяжелая лира»
1927 г. — печать последнего сборника стихов «Европейская ночь»
1931 г. — публикация книги «Державин»
1937 г. — издание «О Пушкине»
1939 г. — выход «Некрополя»
14 июня 1939 г. — скончался в Париже
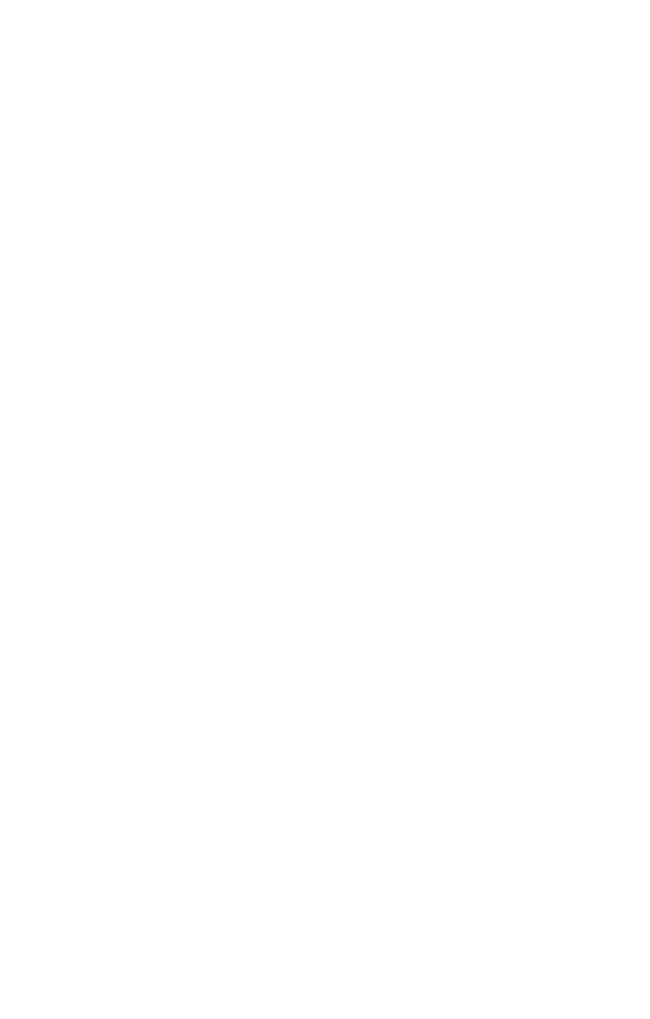
В.Ф. Ходасевич. Около 1905 г.
«Детская душа», но «тяжелая лира»; «прилежный ученик Баратынского, поэт сухой, точный, сдержанный»; «литературный потомок Пушкина по тютчевской линии» «Привил-таки классическую розу / К советскому дичку».
Впрочем, как поэта Ходасевича оценили еще в революционной России. Он был завсегдатаем разных кружков (чаще всего сидел у Валерия Брюсова на четвергах «Свободной эстетики», где выступили Андрей Белый, Константин Бальмонт и другие символисты, но посещал и «Среды», на которых председательствовал Николай Телешов и отдавалось предпочтение реалистической прозе). И везде к Владиславу Фелициановичу привыкли, но всерьез не воспринимали. То, что он писал стихи и вместе с другими зачитывал доклады о поэтах, было давно известно. В конце концов, и с символистами Ходасевич сошелся благодаря тому же Брюсову, с братом которого учился в гимназии. Но в силу молодого возраста стать частью символизма не смог. Позже в автобиографическом очерке «Младенчество» писал о том, что пришел в поэзию с запозданием, когда самое значительное течение уже начало себя исчерпывать, «но еще не настало время явиться новому. Городецкий и Гумилев, мои ровесники, это чувствовали так же, как я. Они пытались создать акмеизм, из которого, в сущности, ничего не вышло и от которого ничего не осталось, кроме названия. Мы же с Цветаевой, которая, впрочем, моложе меня, выйдя из символизма, ни к чему и ни к кому не пристали, остались навек одинокими, “дикими”».
До революции у Ходасевича вышло всего лишь два тоненьких поэтических сборника «Молодость» (1908) и «Счастливый домик» (1914). Болезненные стихи первой книжки в основном были посвящены экстравагантной красавице Марине Рындиной, Ходасевич женился на ней, когда ему исполнилось 18 лет. Марина была из богатой семьи, любила внимание. Носила то ужа на тонкой длинной шее (однажды даже потеряла его в театре, чем вызвала переполох в соседней ложе), то возила за собой небольшой зоопарк (обезьянку, попугая, собаку, кошку и упомянутого змея). Как-то после прогулки верхом привела в имение лошадь, чем шокировала читавшего в комнате Ходасевича. Но тогда она вполне подходила «декадентствующему» поэту: блескучее пенсне, умные глаза, напускное равнодушие, высокий рост, излишняя худоба и, кажется, абсолютно бескровное лицо. Однако в 1907 году Марина ушла к литератору Сергею Маковскому.
Впрочем, как поэта Ходасевича оценили еще в революционной России. Он был завсегдатаем разных кружков (чаще всего сидел у Валерия Брюсова на четвергах «Свободной эстетики», где выступили Андрей Белый, Константин Бальмонт и другие символисты, но посещал и «Среды», на которых председательствовал Николай Телешов и отдавалось предпочтение реалистической прозе). И везде к Владиславу Фелициановичу привыкли, но всерьез не воспринимали. То, что он писал стихи и вместе с другими зачитывал доклады о поэтах, было давно известно. В конце концов, и с символистами Ходасевич сошелся благодаря тому же Брюсову, с братом которого учился в гимназии. Но в силу молодого возраста стать частью символизма не смог. Позже в автобиографическом очерке «Младенчество» писал о том, что пришел в поэзию с запозданием, когда самое значительное течение уже начало себя исчерпывать, «но еще не настало время явиться новому. Городецкий и Гумилев, мои ровесники, это чувствовали так же, как я. Они пытались создать акмеизм, из которого, в сущности, ничего не вышло и от которого ничего не осталось, кроме названия. Мы же с Цветаевой, которая, впрочем, моложе меня, выйдя из символизма, ни к чему и ни к кому не пристали, остались навек одинокими, “дикими”».
До революции у Ходасевича вышло всего лишь два тоненьких поэтических сборника «Молодость» (1908) и «Счастливый домик» (1914). Болезненные стихи первой книжки в основном были посвящены экстравагантной красавице Марине Рындиной, Ходасевич женился на ней, когда ему исполнилось 18 лет. Марина была из богатой семьи, любила внимание. Носила то ужа на тонкой длинной шее (однажды даже потеряла его в театре, чем вызвала переполох в соседней ложе), то возила за собой небольшой зоопарк (обезьянку, попугая, собаку, кошку и упомянутого змея). Как-то после прогулки верхом привела в имение лошадь, чем шокировала читавшего в комнате Ходасевича. Но тогда она вполне подходила «декадентствующему» поэту: блескучее пенсне, умные глаза, напускное равнодушие, высокий рост, излишняя худоба и, кажется, абсолютно бескровное лицо. Однако в 1907 году Марина ушла к литератору Сергею Маковскому.
«Есть десять имен, без которых нет русской поэзии. Ходасевич сумел стать одиннадцатым».
Н.Н. Берберова. Из книги В.И. Шубинского «Владислав Ходасевич: чающий и говорящий» (2011 г.)
Ходасевич тяжело переживал разрыв. Но уже в 1910-е годы увлекся Евгенией Муратовой (женой искусствоведа Павла Павловича Муратова), а после финальных объяснений — Анной Чулковой (сестрой поэта Георгия Чулкова) и в 1911 году обвенчался с ней, усыновив ее ребенка от первого брака.
«Счастливый домик», посвященный «жене моей Анне», критики оценили благосклонно. Но, например, литературовед и автор первого большого исследования о поэте Владимир Вейдле позже говорил: настоящий Ходасевич в этом сборнике еще не проявляется, как незаметна в нем и пушкинская простота. Хотя пушкинская тема, всю жизнь увлекавшая поэта, уже проявилась в названии.
«Счастливый домик», посвященный «жене моей Анне», критики оценили благосклонно. Но, например, литературовед и автор первого большого исследования о поэте Владимир Вейдле позже говорил: настоящий Ходасевич в этом сборнике еще не проявляется, как незаметна в нем и пушкинская простота. Хотя пушкинская тема, всю жизнь увлекавшая поэта, уже проявилась в названии.
Известность принесли две последние «русские» книги — «Путем зерна» (1920) и «Тяжелая лира» (1922), они заставили многих взглянуть на Ходасевича как на не обычнейшего поэта эпохи — ироничного, но «мистического спиритуалиста» (слова литературоведа князя Д.П. Святополка-Мирского).
Я опускаю одноименное стихотворение, давшее название сборнику «Путем зерна», не буду цитировать и хрестоматийные «2-го ноября», «Смоленский рынок», «Обезьяну», когда-то заставившую плакать «не-мистика» и «не-поэта» Максима Горького. Приведу другое тоже известное, написанное в 1917 году, его отличает по-пушкински ясный ритм, чеканная точность и кажущаяся простота:
Я опускаю одноименное стихотворение, давшее название сборнику «Путем зерна», не буду цитировать и хрестоматийные «2-го ноября», «Смоленский рынок», «Обезьяну», когда-то заставившую плакать «не-мистика» и «не-поэта» Максима Горького. Приведу другое тоже известное, написанное в 1917 году, его отличает по-пушкински ясный ритм, чеканная точность и кажущаяся простота:
В заботах каждого дня
Живу, а душа под спудом
Каким-то пламенным чудом
Живет помимо меня.
И часто, спеша к трамваю
Иль над книгой лицо склоня,
Вдруг слышу ропот огня —
И глаза закрываю.
Живу, а душа под спудом
Каким-то пламенным чудом
Живет помимо меня.
И часто, спеша к трамваю
Иль над книгой лицо склоня,
Вдруг слышу ропот огня —
И глаза закрываю.
«Есть десять имен, без которых нет русской поэзии. Ходасевич сумел стать одиннадцатым», — писала в своих мемуарах поэтесса и третья жена Владислава Фелициановича Нина Берберова. Именно с ней 22 июня 1922 года по командировке от Наркомпроса он уехал через Ригу в Берлин. Анну Ходасевич об отъезде он оповестил письмом уже из-за границы. Но до того, если верить ее воспоминаниям, «временами он проклинал Берберову и смеялся над ней. Но если он не видел ее дня два-три, то кричал и плакал, и я сама отправлялась к Берберовой, чтобы привести ее к нам для его успокоения».
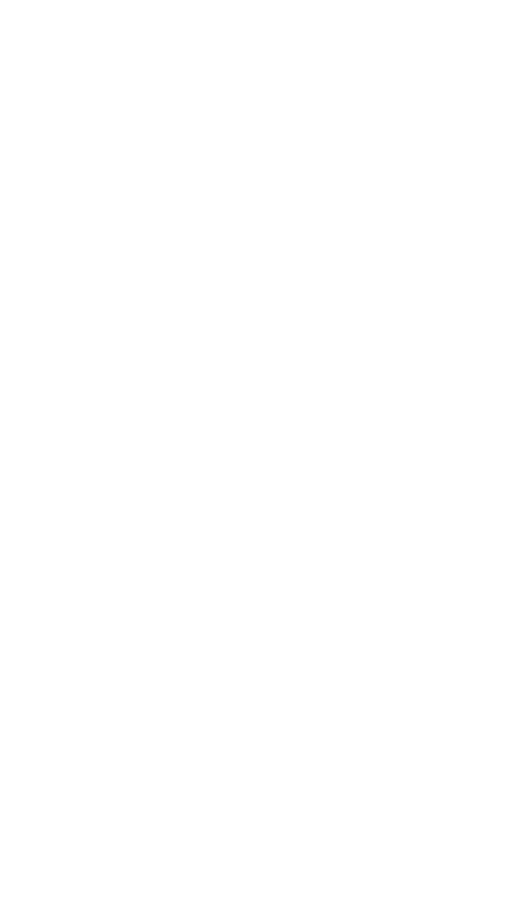
В.Ф. Ходасевич и Н.Н. Берберова. Сорренто. 1925 г.
Революцию Ходасевич принял с воодушевлением. Еще в 1920-х годах он замечал в записных книжках: «Коммунизм внутри нас». Однако, поработав с «товарищами» из разных инстанций, пооббивав пороги Каменева и Луначарского, довольно скоро убедился: большевики только делают вид, что сотрудничают. Так, в своих эмигрантских мемуарах «Белый коридор» Ходасевич вспоминает службу в Тео (Театральном отделе Наркомпроса) 1918 года: «... заседали секционно, коллегиально и пленарно, писали проекты, составляли схемы, инструкции, мандаты, а больше всего почему-то переезжали из этажа в этаж, из комнаты в комнату огромного здания на Неглинной улице. Все пересаживались, как крыловский квартет». Разумеется, невозможность нормально работать ни дома, ни на службе только раздражала желчного Ходасевича, к тому времени ухудшилось его здоровье, не хватало денег, семья недоедала. Жизнь в неотапливаемом подвале привела к обострению туберкулеза позвоночника (хроническому заболеванию, приобретенному поэтом еще в 1916 году), а в 1920-м — к тяжелому фурункулезу. Два года перед эмиграцией Ходасевичи (по инициативе Горького) прожили в Петербурге, впрочем, так же претерпевая и голодая. Тогда он много занимался переводами и чтением лекций о Пушкине.
Пушкинская тема — одна из грандиознейших в творчестве Ходасевича. Он выступал с речами (самая известная «Колеблемый треножник», 1921 год), готовил курсы, написал около 80 статей и уже в Париже в конце 1930-х годов должен был составить заключительную книгу о Пушкине. Писатели-эмигранты, чтобы поддержать его, даже запустили подписку на издание, но книга так и не появилась.
Пушкинская тема — одна из грандиознейших в творчестве Ходасевича. Он выступал с речами (самая известная «Колеблемый треножник», 1921 год), готовил курсы, написал около 80 статей и уже в Париже в конце 1930-х годов должен был составить заключительную книгу о Пушкине. Писатели-эмигранты, чтобы поддержать его, даже запустили подписку на издание, но книга так и не появилась.
Сам Ходасевич считал, что ему нужно на работу два года и непременно быть в России. Что тогда казалось невозможным, потому что его давно объявили «антисоветчиком» (за ряд статей о деятельности ГПУ в эмиграции), во-вторых, литературная поденщина, которой он вынужденно занимался до конца жизни (только в 1925 году в Париже параллельно печатался в «Днях», «Современных записках», «Последних новостях»), отдалила его от поэзии, и, как ни странно, от Пушкина, который всегда ему сопутствовал. Ведь через пушкинское наследие Ходасевич видел себя русским поэтом. Его отец — потомок обедневшего польско-литовского дворянского рода, фотограф; мать — дочь еврейского литератора Якова Александровича Брафмана, ревностная католичка, обеспечили ему то несоответствие, которое он остро переживал всю жизнь — русский поэт без капли русской крови.
«Крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской линии, он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней».
В.В. Набоков. Эссе «О Ходасевиче» (1939 г.)
В 1937 году вышла книга «О Пушкине» (по сути, обновленный вариант сборника «Поэтическое хозяйство Пушкина» с исправлениями и несколькими дополнительными статьями. «Хозяйство» некогда напечатали друзья без ведома Ходасевича, как он возмущенно замечал в предисловии «О Пушкине», «в таком неслыханно искаженном виде»).
Для исследователей до сих пор велик соблазн сравнения Ходасевича и Пушкина. Многие этим и занимаются, особенно когда говорят о стихах. К тому же обманчивая близость к классику по ритму и канве некоторых поэтических текстов, например история о кормилице («Не матерью, но тульскою крестьянкой / Еленой Кузиной я выкормлен. Она / Cвивальники мне грела над лежанкой, / Крестила на ночь от дурного сна»), которую мнят новой Ариной Родионовной, действительно дает повод. Но, думается, права Зинаида Гиппиус, увидевшая в поэзии Ходасевича (при явной пушкинской традиции) странный внутренний разлад, совершенно не свойственный цельному гению Пушкина и ставящий поэзию Ходасевича наособицу. «Отчасти благодаря своей четкости, резкости прямых линий, поэзия Ходасевича не “обворожительна”. Мания его “сурово стиснутых стихов” — иного порядка. <…> Один критик сказал мне недавно: “По Ходасевичу, как по секундной стрелке, можно видеть движение времени: от Блока — вперед. Блок уже не современен; Блок ездит еще по железной дороге; у Ходасевича и автомобили, и те крылатые; даже крылья у них, — разве не важно? — у одних белые, у других черные…”»
Четвертый сборник «Европейская ночь» напечатали в 1927 году, он стал последним прижизненным. В него вошли книги — «Путем зерна», «Тяжелая лира» и несколько новых стихотворений, написанных за время скитания по Европе (после Берлина Ходасевич с Берберовой жили в Праге, Мариенбаде, Венеции, Риме, Турине, Париже, Лондоне, Белфасте, Неаполе, в Сорренто у Горького и только в 1925 году окончательно осели во французской столице). Жили в нищете. Эмиграцию Ходасевич воспринимал как сплошное мучение. Не удивительно, что и новые стихи полны сожалений, разочарований и злой иронии.
Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всевидящего, как змея?
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всевидящего, как змея?
А уже в 1930-е годы (и позже в некрологах) критики стали поговаривать о том, что Ходасевич совсем отвернулся от поэзии, полностью уйдя в газетно-журнальную работу. «Если в самом деле он перестал писать стихи (повторяю, плохо верю), то это было, конечно, худшим несчастьем его жизни», — говорил всегда сдержанный на выводы Марк Алданов в заметке, посвященной смерти Ходасевича. Однако Ходасевич не печатал и то немногое из стихов, что писалось.
«Прилежный ученик Баратынского, поэт сухой, точный, сдержанный — Ходасевич уже в вышедшем в 1914 году «Счастливом домике» является исключительным мастером. Последующие его книги — “Путем зерна» и особенно “Тяжелая лира” — в этом смысле
еще удачнее. С формальной стороны это почти предел безошибочного мастерства. Можно только удивляться в стихах Ходасевича единственному в своем роде сочетанию ума, вкуса и чувства меры. И если бы значительность поэзии измерялась ее формальными достоинствами, Ходасевича следовало бы признать поэтом огромного значения…»
еще удачнее. С формальной стороны это почти предел безошибочного мастерства. Можно только удивляться в стихах Ходасевича единственному в своем роде сочетанию ума, вкуса и чувства меры. И если бы значительность поэзии измерялась ее формальными достоинствами, Ходасевича следовало бы признать поэтом огромного значения…»
Г.В. Иванов. «В защиту Ходасевича» (1928 г.)
Зато появился огромный труд «Державин» (1931), желчный «Некрополь» (1939), где даже очерки о Валерии Брюсове и Андрее Белом, с которыми Ходасевич дружил в разные периоды, политы таким невозможно талантливым ядом, что уж говорить о тех, кого Владислав Фелицианович, мягко говоря, недолюбливал.
И это не считая десятков очень точных и едких статей о классиках и современных ему литераторах. Одна из интереснейших критических полемик в русской литературе связана с именами Ходасевича и Георгия Адамовича, двух звезд эмигрантской критики – говорю это без иронии. Посвящена она возможности существования литературы в изгнании и русской поэзии в частности. Вот уж где сошлись две язвы. Например, спор о Пастернаке. Ходасевич пишет: «Тысячи (буквально) нынешних Пастернаков, состоящих членами “Всероссийского союза поэтов”, во всей своей совокупности не равны Пушкину, хоть их помножить еще на квадриллионы». Адамович холодно отвечает: «Я ведь в прошлый раз не выражал сочувствия пастернаковским результатам, — я лишь признал некоторую законность его стремлений». И в том же духе о других литераторах.
И это не считая десятков очень точных и едких статей о классиках и современных ему литераторах. Одна из интереснейших критических полемик в русской литературе связана с именами Ходасевича и Георгия Адамовича, двух звезд эмигрантской критики – говорю это без иронии. Посвящена она возможности существования литературы в изгнании и русской поэзии в частности. Вот уж где сошлись две язвы. Например, спор о Пастернаке. Ходасевич пишет: «Тысячи (буквально) нынешних Пастернаков, состоящих членами “Всероссийского союза поэтов”, во всей своей совокупности не равны Пушкину, хоть их помножить еще на квадриллионы». Адамович холодно отвечает: «Я ведь в прошлый раз не выражал сочувствия пастернаковским результатам, — я лишь признал некоторую законность его стремлений». И в том же духе о других литераторах.
В последние годы снова проявилась болезнь, сделавшая невозможной работу Ходасевича над пушкинской книгой. Ушла Берберова, Ходасевич женился на Ольге Марголиной (убитой в 1942 году в Освенциме). А через полгода после выхода «Некрополя», 14 июня 1939 года, он умер, по свидетельствам одних современников, от камней в почках, по предположениям других — от рака (что, в общем-то, не так важно, учитывая нестерпимость болей при обоих заболеваниях). Похоронен в предместье Парижа, на кладбище Булонь-Биянкур и, как отметил в некрологе В.В. Набоков, видимо, отправился туда, где «быть может, кое-что долетает до слуха больших поэтов, пронзая наше бытие потусторонней свежестью — и придавая искусству как раз то таинственное, что составляет его невыделимый признак».
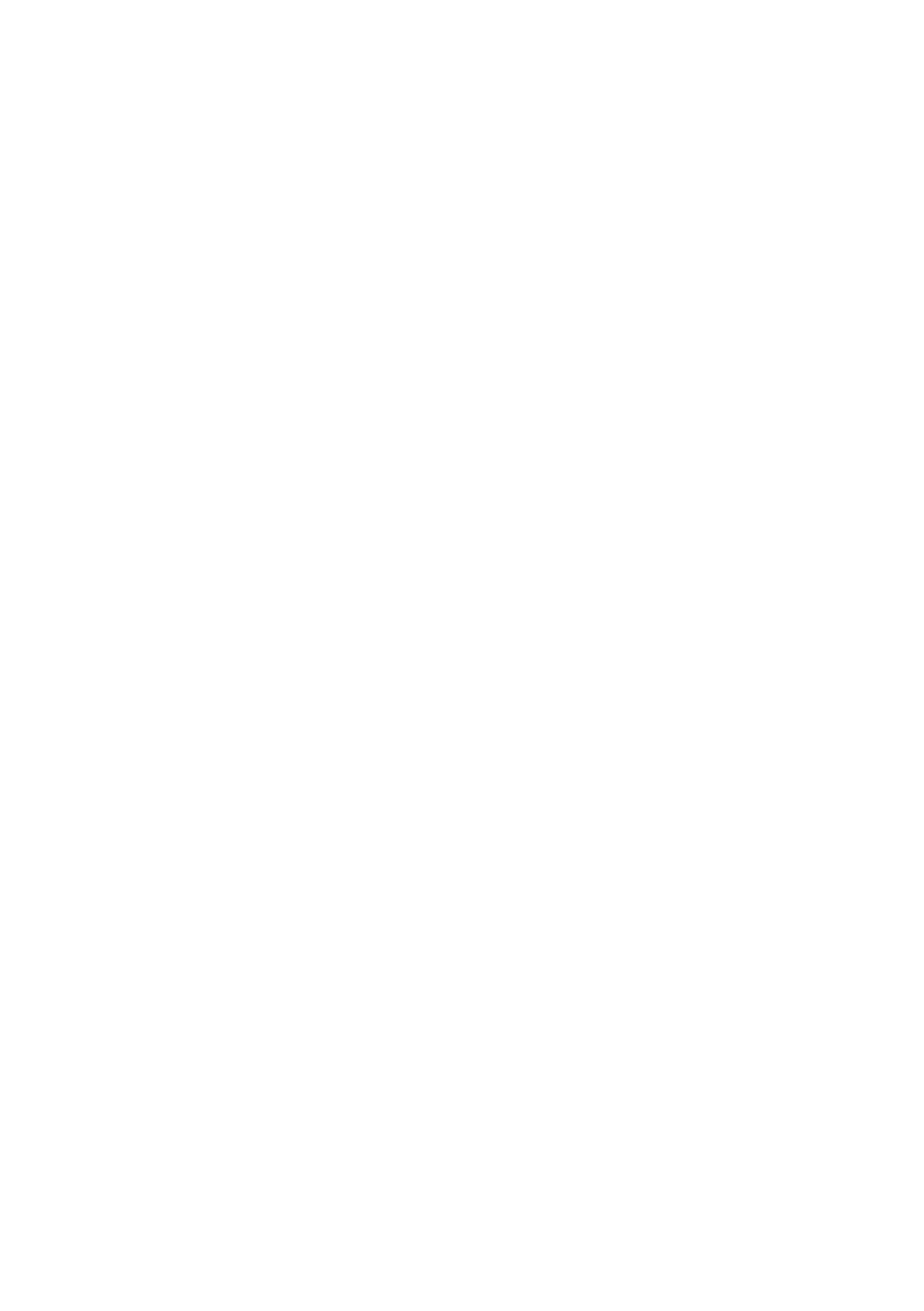
«Поэт глубокого дыхания»
Лондон, Рим, Венеция, Прага, Париж, Турин — не перечислить города, где прошли годы эмиграции поэта