«Душой исполненный полет»
Тамара Платоновна Карсавина
(1885–1978)
(1885–1978)
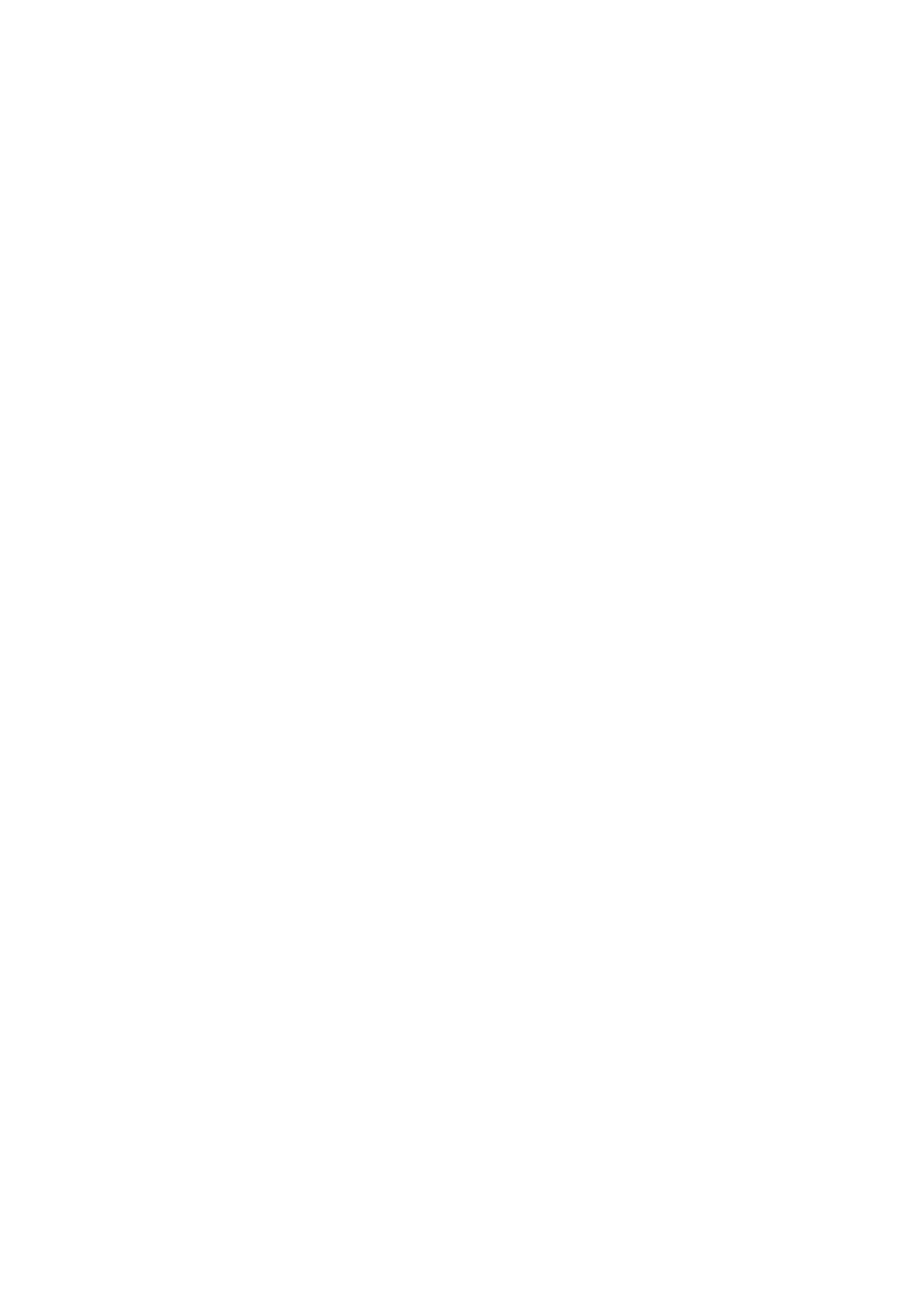
Богиня «Русских сезонов» во Франции
Париж — город, с которым связана одна из самых ярких страниц судьбы Тамары Карсавиной, вместе с другими блестящими артистами украсившей балетную сцену «Русских сезонов»
1907–1914 годов
Париж — город, с которым связана одна из самых ярких страниц судьбы Тамары Карсавиной, вместе с другими блестящими артистами украсившей балетную сцену «Русских сезонов»
1907–1914 годов
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
25 февраля (9 марта) 1885 г. — родилась в Санкт-Петербурге
1902 г. — окончила Императорское театральное училище
1906 г. — начала гастрольную деятельность
1910 г. — прима-балерина Мариинского театра
1917 или 1918 г. — брак с британским дипломатом Генри Брюсом
1918 г. — эмиграция в Лондон
1918–1929 гг. — гастролировала с Русским балетом Дягилева
1930–1955 гг. — вице-президент Королевской академии танца
26 мая 1978 г. — умерла в Лондоне
25 февраля (9 марта) 1885 г. — родилась в Санкт-Петербурге
1902 г. — окончила Императорское театральное училище
1906 г. — начала гастрольную деятельность
1910 г. — прима-балерина Мариинского театра
1917 или 1918 г. — брак с британским дипломатом Генри Брюсом
1918 г. — эмиграция в Лондон
1918–1929 гг. — гастролировала с Русским балетом Дягилева
1930–1955 гг. — вице-президент Королевской академии танца
26 мая 1978 г. — умерла в Лондоне
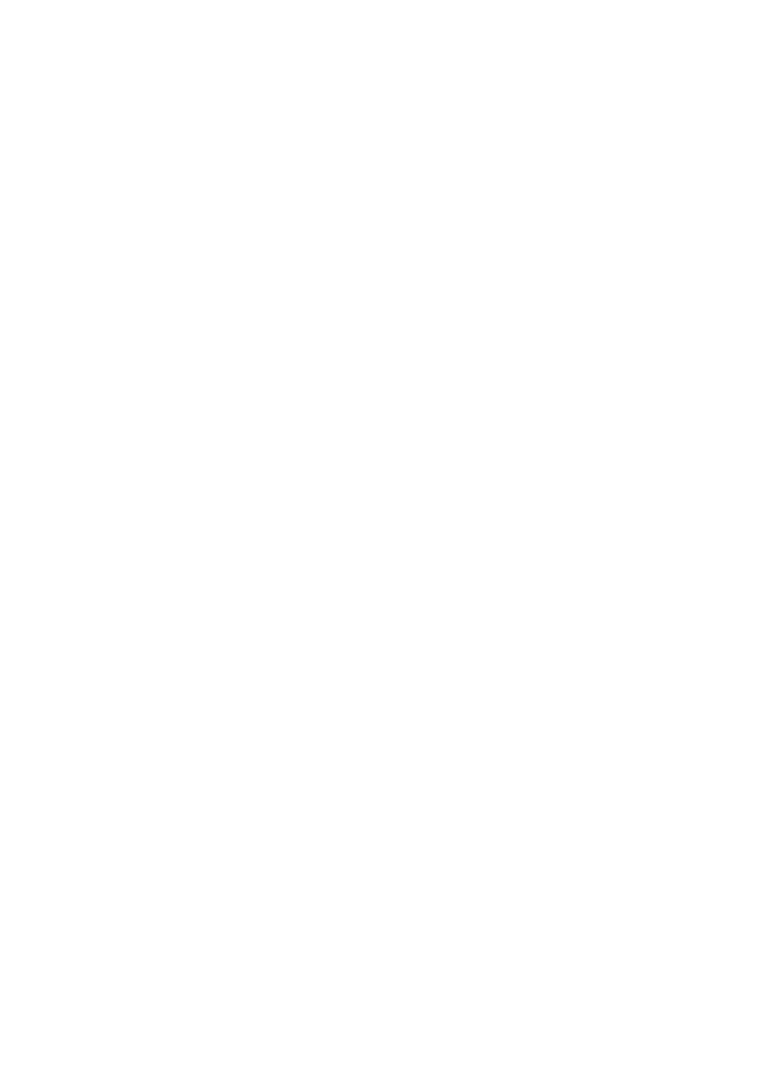
Т.П. Карсавина. 1923 г.
Октябрь 1917 года — знаковая дата начала драматичнейшего XX века: Октябрьская революция, залп «Авроры», штурм Зимнего. Мощный пафос целлулоидной ленты «Октябрь» молодого кинорежиссера Сергея Эйзенштейна ныне воспринимается как хроникальные кадры подлинного события, убеждающие нас, что так все и было.
Но как жил Петроград в те тревожные дни и ночи? Трудно представить, но Северная столица Российской империи пребывала в своем привычном и устоявшемся ритме бытия. «Поэты писали стихи, но только не о революции, — так зафиксировал увиденное свидетель происходившей ломки государства, американский писатель и журналист Джон Рид в своей книге «10 дней, которые потрясли мир», высоко оцененной Лениным. — Художники-реалисты писали картины на темы старинного русского быта — о чем угодно, но не о революции». Открывались многочисленные выставки. Пел Шаляпин. В Александрийском театре Мейерхольд возобновлял постановку Алексея Толстого «Смерть Ивана Грозного». Балетоманы в Мариинке наслаждались неповторимой Карсавиной…
В XX веке Тамара Платоновна Карсавина — гордость русской школы балета, вице-президент Королевской академии танца в Лондоне, одна из ярчайших звезд «Русских сезонов», автор популярных книг по хореографии. Как сложилась ее судьба?
Разумеется, по положительным законам природы: корни идут из прекрасной семьи.
Отец, Платон Константинович Карсавин, — артист, педагог, балетмейстер, первый исполнитель мимических ролей. Обладал виртуозной техникой и большим прыжком. В балетной труппе Императорского Мариинского театра занимал ведущее положение премьера. Ученик, один из любимцев Мариуса Петипа, прославленного кумира танца. … Сев у окна, Платон Константинович брал в руки альбом, раскладывал вокруг себя кисти, краски и приступал к рисованию. Тщательно исполненные им акварелью танцующие фигурки в национальных костюмах завораживали Таточку. Она не могла оторваться от чуда, появлявшегося прямо на глазах. Маленькая девочка словно входила в свое балетное будущее, видя красоту движений этих забавных цветных человечков.
Но как жил Петроград в те тревожные дни и ночи? Трудно представить, но Северная столица Российской империи пребывала в своем привычном и устоявшемся ритме бытия. «Поэты писали стихи, но только не о революции, — так зафиксировал увиденное свидетель происходившей ломки государства, американский писатель и журналист Джон Рид в своей книге «10 дней, которые потрясли мир», высоко оцененной Лениным. — Художники-реалисты писали картины на темы старинного русского быта — о чем угодно, но не о революции». Открывались многочисленные выставки. Пел Шаляпин. В Александрийском театре Мейерхольд возобновлял постановку Алексея Толстого «Смерть Ивана Грозного». Балетоманы в Мариинке наслаждались неповторимой Карсавиной…
В XX веке Тамара Платоновна Карсавина — гордость русской школы балета, вице-президент Королевской академии танца в Лондоне, одна из ярчайших звезд «Русских сезонов», автор популярных книг по хореографии. Как сложилась ее судьба?
Разумеется, по положительным законам природы: корни идут из прекрасной семьи.
Отец, Платон Константинович Карсавин, — артист, педагог, балетмейстер, первый исполнитель мимических ролей. Обладал виртуозной техникой и большим прыжком. В балетной труппе Императорского Мариинского театра занимал ведущее положение премьера. Ученик, один из любимцев Мариуса Петипа, прославленного кумира танца. … Сев у окна, Платон Константинович брал в руки альбом, раскладывал вокруг себя кисти, краски и приступал к рисованию. Тщательно исполненные им акварелью танцующие фигурки в национальных костюмах завораживали Таточку. Она не могла оторваться от чуда, появлявшегося прямо на глазах. Маленькая девочка словно входила в свое балетное будущее, видя красоту движений этих забавных цветных человечков.
«Имена Анны Павловой и Тамары Карсавиной связаны с расцветом балетного импрессионизма».
В.М. Красовская. «Павлова. Карсавина. Спесивцева». Из книги «Русский балетный театр начала XX века: Танцовщики» (1972 г.)
На особую пластику дочери рано обратила внимание мать Анна Иосифовна и поняла, что та рождена для театра. Отец был категорически против. Он пребывал тогда в тревожном ожидании: по суровым требованиям искусства танца ему грозила ранняя пенсия — и это в расцвете сил! Но когда Тамара прошла сложный отбор при поступлении в хорео графическое училище, отец все же принял участие в подготовке дочери.
Самостоятельно научившаяся в детстве читать, Тамара была влюблена в книгу. Вместе со старшим братом Левой они счастливы были рыться в отцовской библиотеке. В дальнейшем ее усидчивость сыграла положительную роль: вскоре после ее поступления в училище была введена новая дисциплина, ставшая попыткой создать систему записи движений человеческого тела, анатомически проанализированных и, как музыкальные ноты, фиксировавшихся на бумаге условными значками. Изобрел эту «абракадабру» (по скрытому негодованию однокурсниц Тамары) обладавший церковным саном французский аббат Табуро, а доработал — русский музыкальный энтузиаст Степанов. Именно привычка к самоуглубленности помогла Тамаре скрупулезно освоить «неуютный» предмет.
Самостоятельно научившаяся в детстве читать, Тамара была влюблена в книгу. Вместе со старшим братом Левой они счастливы были рыться в отцовской библиотеке. В дальнейшем ее усидчивость сыграла положительную роль: вскоре после ее поступления в училище была введена новая дисциплина, ставшая попыткой создать систему записи движений человеческого тела, анатомически проанализированных и, как музыкальные ноты, фиксировавшихся на бумаге условными значками. Изобрел эту «абракадабру» (по скрытому негодованию однокурсниц Тамары) обладавший церковным саном французский аббат Табуро, а доработал — русский музыкальный энтузиаст Степанов. Именно привычка к самоуглубленности помогла Тамаре скрупулезно освоить «неуютный» предмет.
Брат Карсавиной Лева увлекался астрономией, при помощи подержанного, купленного на задворках городского базара заржавевшего телескопа, он наблюдал за звездами. В будущем Лев Платонович Карсавин стал блестящим ученым — историком, культурологом, богословом. В 1922 году он был выслан из России, а после вхождения Литвы в состав СССР попал в Воркутинский лагерь, где погиб в 1952 году…
Одной из выпускниц училища, бывшей на несколько лет старше Тамары, была внешне необычайно хрупкая будущая знаменитость Анна Павлова. «И сама Павлова, — писала Карсавина, — тогда вряд ли осознавала, что в ее хрупкости и некоторой ограниченности технических возможностей как раз и таилась огромная сила ее неповтори мости и чарующей индивидуальности».
Дебют Тамары Карсавиной в Мариинском театре состоялся 1 мая 1902 года и прошел весьма успешно. Анна Павлова по окончании спектакля, направляясь в свою артистическую уборную, кивнула растерянной и еще не пришедшей в себя молодой балерине: «Настоящая овация, дитя мое!» Скромному, застенчивому обаянию таланта юной Карсавиной очень симпатизировала блистательная и дерзкая Матильда Кшесинская.
«Tres bien, ma belle…» («Очень хорошо, моя красавица…» — Л.К.) — по окончании первого сезона Карсавиной в театре обратился к ней сам Мариус Петипа (за многие годы пребывания в России так и не на учившийся хорошо говорить на чужом для него русском языке). На одном из вечеров в дворцовом театре Эрмитажа, где присутствовали Николай II и императрица Александра Федоровна, к Карсавиной подбежал Федор Шаляпин и своим удивительным голосом, перекрывшим все шумы зала, пропел: «В любви, как в злобе, верь, Тамара, я неизменен и велик».
Одной из выпускниц училища, бывшей на несколько лет старше Тамары, была внешне необычайно хрупкая будущая знаменитость Анна Павлова. «И сама Павлова, — писала Карсавина, — тогда вряд ли осознавала, что в ее хрупкости и некоторой ограниченности технических возможностей как раз и таилась огромная сила ее неповтори мости и чарующей индивидуальности».
Дебют Тамары Карсавиной в Мариинском театре состоялся 1 мая 1902 года и прошел весьма успешно. Анна Павлова по окончании спектакля, направляясь в свою артистическую уборную, кивнула растерянной и еще не пришедшей в себя молодой балерине: «Настоящая овация, дитя мое!» Скромному, застенчивому обаянию таланта юной Карсавиной очень симпатизировала блистательная и дерзкая Матильда Кшесинская.
«Tres bien, ma belle…» («Очень хорошо, моя красавица…» — Л.К.) — по окончании первого сезона Карсавиной в театре обратился к ней сам Мариус Петипа (за многие годы пребывания в России так и не на учившийся хорошо говорить на чужом для него русском языке). На одном из вечеров в дворцовом театре Эрмитажа, где присутствовали Николай II и императрица Александра Федоровна, к Карсавиной подбежал Федор Шаляпин и своим удивительным голосом, перекрывшим все шумы зала, пропел: «В любви, как в злобе, верь, Тамара, я неизменен и велик».
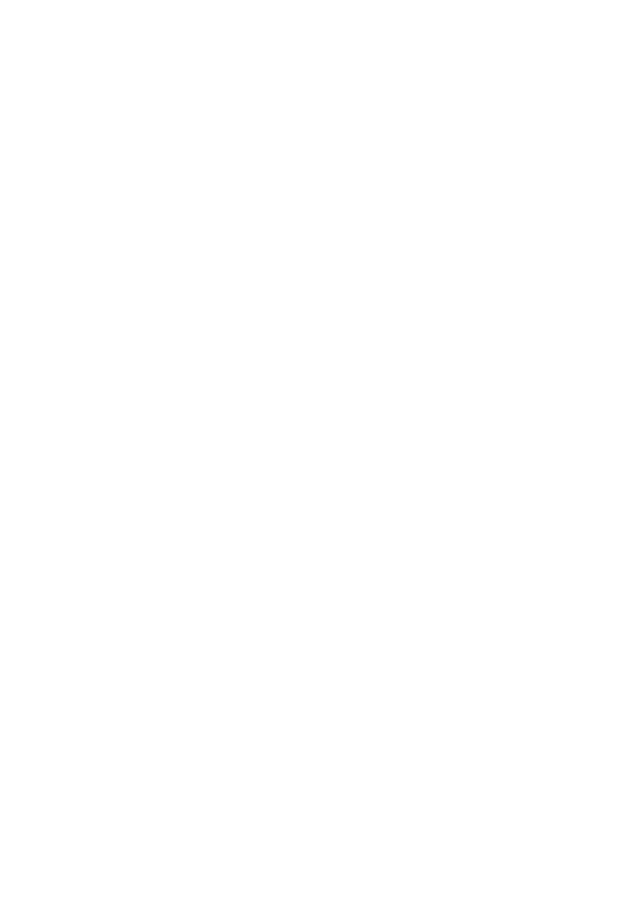
Т.П. Карсавина и В.Ф. Нижинский в балете «Призрак розы». 1910-е гг.
В 1906 году Карсавина получила свою первую большую роль в спектакле «Конек-горбунок, или Царь-девица» и охарактеризовала этот важный этап жизни словами: «Поиски вслепую остались позади, теперь я ясно видела свой путь к идеалу». В этом же году произошла ее встреча с «восьмым чудом света», юношей, выпускником театрального училища, которое только что окончила Тамара. Талант и незаурядность его по-настоящему раскрыла в Париже интуиция Сергея Дягилева, а Карсавина стала его неизменной партнершей. Это был Вацлав Нижинский, которого называли «марионетка Бога». Неправ был Платон Константинович, отец Тамары, сказавший что для мужчины, даже выдающегося, в балете место второстепенное. Вспомнить хотя бы партию Карсавиной в дуэте с Нижинским в «Видении розы» на театральной сцене Монте-Карло! Этот редкий творческий союз равных по дарованию талантов состоялся в апреле 1911 года и продолжился в последующих спектаклях, — «Петрушка», «Синий бог», «Дафнис и Хлоя», «Игры». В рамках антрепризы Карсавина танцевала с Нижинским. Дягилев нежно называл Тамару и Вацлава «мои дети». Позднее ее искусство охарактеризуют как интеллектуальное. В паре с гением танца Карсавину ждет успех.
Санкт-Петербург, поздний час. В Мариинке закончился спектакль. Тамара любила возвращаться домой прогулочным шагом, по ритму своих мыслей, так гармонировавшему с вечерней темнотой города, погружавшегося в сон. Каретой пользовалась редко, экономя деньги. Увольнение отца со службы сказывалось на повседневном бюджете семьи. Были ее любимые городские уголки и задворки, возле которых останавливалась, внимательно все рассматривая. А вот улочка с грустным названием Упраздненный переулок. Деревянный особняк с окнами нижнего этажа, буквально вросшими в землю. За одним из окон сидела швея с печальными еврейскими глазами. «Взгляды наши встретились, и мы друг другу улыбнулась». Больше Тамара ее никогда так и не увидела. Как сложилась судьба той бедной девушки?Неизвестно, впрочем, как и судьбы многих промелькнувших перед ней лиц. Близких или далеких, счастливых или трагически несостоявшихся. Она мысленно лепила в своем воображении житейские заботы и переживания этих людей, каждый из которых становился ей близким, родным. Карсавина обладала редким по душевной чуткости сердцем.
Как песню слагаешь ты легкий танец,
О славе он нам сказал.
На бледных щеках розовеет румянец,
Темней и темней глаза.
И с каждой минутой все больше пленных,
Забывших свое бытие.
И клонится снова в звуках блаженных
Гибкое тело твое.
О славе он нам сказал.
На бледных щеках розовеет румянец,
Темней и темней глаза.
И с каждой минутой все больше пленных,
Забывших свое бытие.
И клонится снова в звуках блаженных
Гибкое тело твое.
А.А. Ахматова (1914 г.)
1909 год, Париж. Дягилев открывает выставку художников «Мира искусства» и организовывает несколько представлений «Бориса Годунова». У него рождается дерзкая идея устроить во французской столице целый русский сезон, набрав балетную и оперную труппы. Карсавина вспоминала: «Никто и помыслить не мог о том, что нам суждено вскоре внести столь значительный вклад в европейское искусство». И вдруг такая культурная амбициозная акция, носившая, несомненно, и коммерческий характер, поразила воображение парижан. В жизни балерины произошли значительные перемены, когда она получила от Сергея Дягилева предложение заключить контракт на предстоящие выступления.
Трагические события Первой мировой войны не оборвали жизнь театра. Сцена выполняла свою, по сути, главную миссию — была отдушиной среди трагически нелепой кровавой бойни. Все усилия театральной среды сосредоточились на том, чтобы сохранить вечные ценности классического наследия великих драматургов.
А романтика первых месяцев революции 1917-го, как ее восприняли некоторые актеры, художники и писатели, резко улетучилась. Карсавина не смогла смириться с этим. В первую очередь она боя лась за судьбу Никиты, своего четырехлетнего сына. Вместе со своим вторым мужем Генрихом Брюсом, английским дипломатом, начальником канцелярии посольства Великобритании, они предприняли отчаянную попытку покинуть Петроград, находившийся во власти большевиков.
Ценой огромных усилий, подвергаясь смертельной опасности, супругам удалось вырваться из страны. Они успели сесть на последний корабль в заливе Белого моря, пересесть на борт угольщика — грузового судна, показавшегося им раем мореходным. Далее — поезд до Мурманска и ночное прибытие в Мидлсбро.
Трагические события Первой мировой войны не оборвали жизнь театра. Сцена выполняла свою, по сути, главную миссию — была отдушиной среди трагически нелепой кровавой бойни. Все усилия театральной среды сосредоточились на том, чтобы сохранить вечные ценности классического наследия великих драматургов.
А романтика первых месяцев революции 1917-го, как ее восприняли некоторые актеры, художники и писатели, резко улетучилась. Карсавина не смогла смириться с этим. В первую очередь она боя лась за судьбу Никиты, своего четырехлетнего сына. Вместе со своим вторым мужем Генрихом Брюсом, английским дипломатом, начальником канцелярии посольства Великобритании, они предприняли отчаянную попытку покинуть Петроград, находившийся во власти большевиков.
Ценой огромных усилий, подвергаясь смертельной опасности, супругам удалось вырваться из страны. Они успели сесть на последний корабль в заливе Белого моря, пересесть на борт угольщика — грузового судна, показавшегося им раем мореходным. Далее — поезд до Мурманска и ночное прибытие в Мидлсбро.
«Это были огни рампы нового мира!» — написала в своем дневнике Тамара и горько добавила: «Россия — дикая страна большой культуры и поразительного невежества». Так обостренно тяжело восприняла она драму расставания с Родиной.
Популярность за границей для нее началась раньше: с «девятого вала нашествия русского балета» (по формулировке французской печати) в Париже. В списке выдающихся артистов, покоривших Европу, а затем и весь мир, имя Тамары Карсавиной сияло рядом с именами Анны Павловой, Веры Карали, Софьи Федоровой, Михаила Фокина, Вацлава Нижинского, Сержа Лифаря, Михаила Мордкина. Балетный спектакль в их исполнении поднялся до высокой музыкальной драмы!
Красота, грация, талант Тамары Платоновны не могли оставить равнодушными художников. Ее рисовали Леон Бакст, Мстислав Добужинский, Валентин Серов, Джон Сарджент, Савелий Сорин, Зинаида Серебрякова. Эскизы костюмов к новым спектаклям для нее создавали Бакст, Бенуа, Коровин, Гончарова. Поэтические строки ей посвятили Анна Ахматова и Михаил Кузьмин.
Мужчины самого высокого ранга добивались ее руки, среди которых был офицер Карл Густав Маннергейм, в будущем маршал, президент Финляндии. Но она отдала свое сердце британцу, с которым прожила в счастливом браке почти 30 лет. «Несмотря на эгоизм, свойственный мужчинам вообще, у меня не было никаких амбиций, кроме желания находиться в тени Тамары», — признавался Генрих Брюс с недипломатической искренностью. Они жили в Лондоне. Карсавина преподавала, писала книги.
Она умерла в 1978 году в возрасте 93 лет, похоронена в столице Великобритании.
«Душой исполненный полет» — поэтическая строка Александра Сергеевича Пушкина словно посвящена творчеству легендарной русской балерины Тамары Платоновны Карсавиной.
Популярность за границей для нее началась раньше: с «девятого вала нашествия русского балета» (по формулировке французской печати) в Париже. В списке выдающихся артистов, покоривших Европу, а затем и весь мир, имя Тамары Карсавиной сияло рядом с именами Анны Павловой, Веры Карали, Софьи Федоровой, Михаила Фокина, Вацлава Нижинского, Сержа Лифаря, Михаила Мордкина. Балетный спектакль в их исполнении поднялся до высокой музыкальной драмы!
Красота, грация, талант Тамары Платоновны не могли оставить равнодушными художников. Ее рисовали Леон Бакст, Мстислав Добужинский, Валентин Серов, Джон Сарджент, Савелий Сорин, Зинаида Серебрякова. Эскизы костюмов к новым спектаклям для нее создавали Бакст, Бенуа, Коровин, Гончарова. Поэтические строки ей посвятили Анна Ахматова и Михаил Кузьмин.
Мужчины самого высокого ранга добивались ее руки, среди которых был офицер Карл Густав Маннергейм, в будущем маршал, президент Финляндии. Но она отдала свое сердце британцу, с которым прожила в счастливом браке почти 30 лет. «Несмотря на эгоизм, свойственный мужчинам вообще, у меня не было никаких амбиций, кроме желания находиться в тени Тамары», — признавался Генрих Брюс с недипломатической искренностью. Они жили в Лондоне. Карсавина преподавала, писала книги.
Она умерла в 1978 году в возрасте 93 лет, похоронена в столице Великобритании.
«Душой исполненный полет» — поэтическая строка Александра Сергеевича Пушкина словно посвящена творчеству легендарной русской балерины Тамары Платоновны Карсавиной.
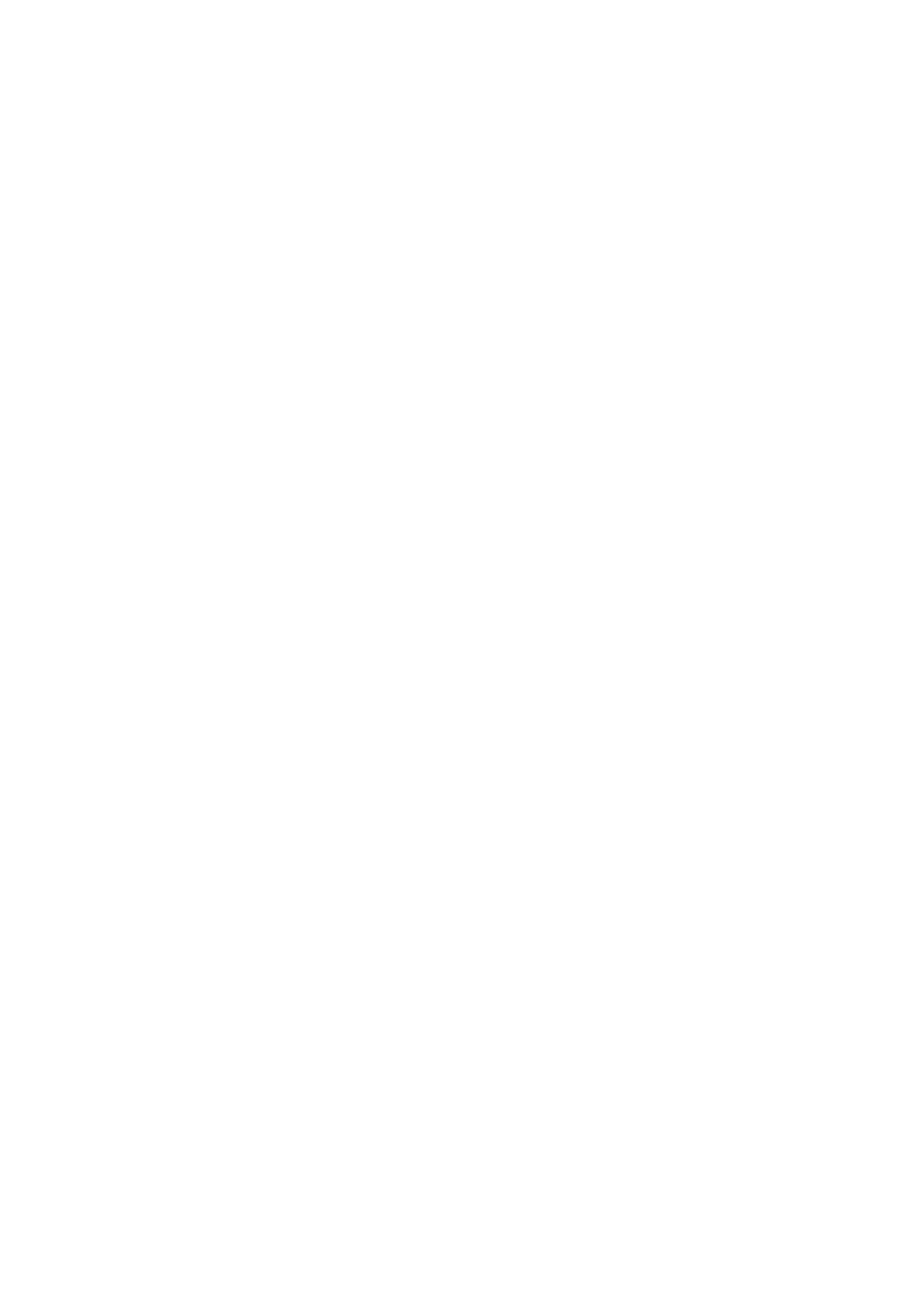
Уют парижских улиц
Тамара Платоновна Карсавина жила в Лондоне, на родине своего супруга, дипломата Генри Брюса. Преподавала, писала книги, являлась автором многочисленных статей, мемуаров и учебных пособий по классическому танцу. С 1930 по 1955 год была вице-президентом английской Королевской академии танца