«Желанных слов невоплотимы тени»
Эмилия Кирилловна Чегринцева
(1904–1989)
(1904–1989)
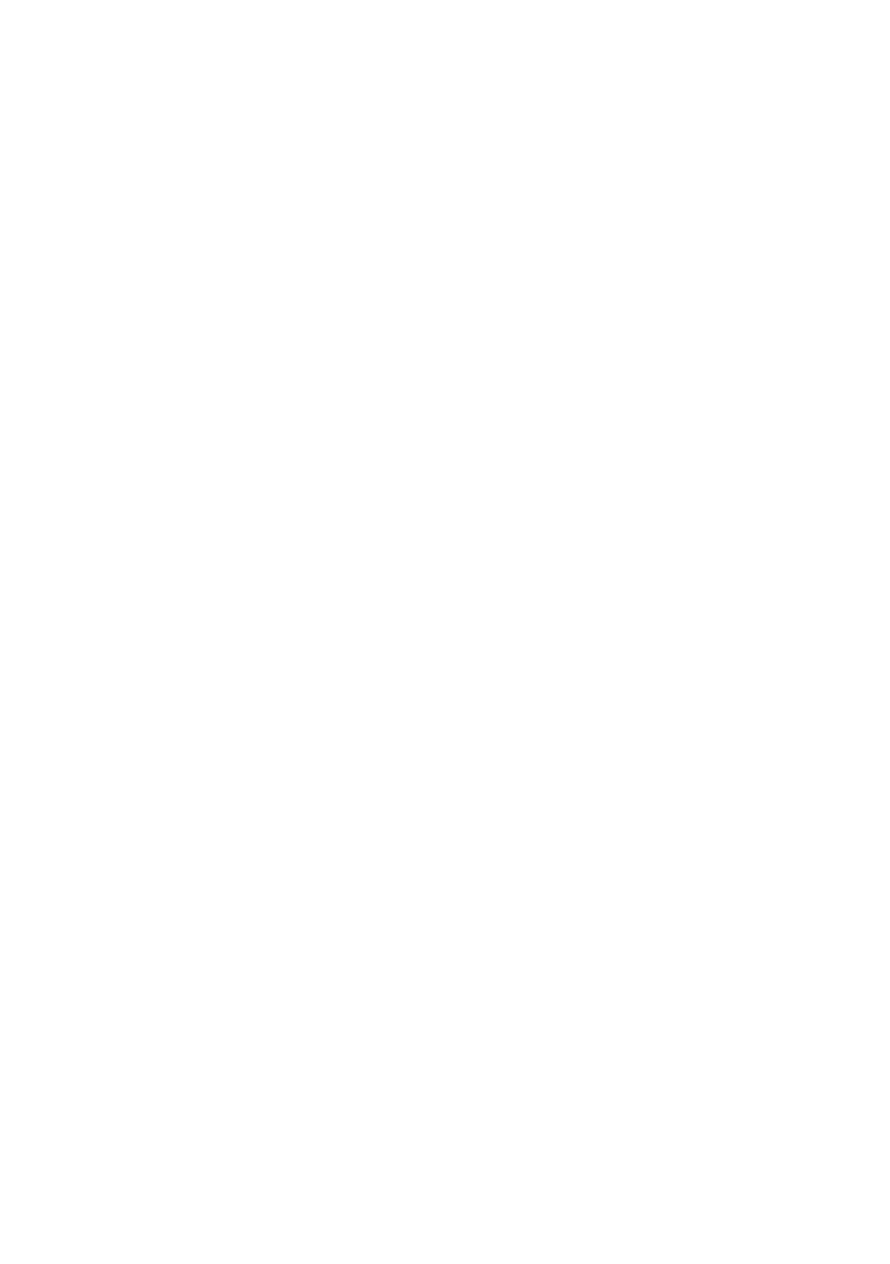
Выступление на одном из поэтических вечеров
«Эмилия Кирилловна Чегринцева, худощавая, необыкновенно живая, всегда элегантно одетая женщина, декламировала, несколько усеченным, отрывистым способом скандируя свои сложные, богатые образами стихи».
«Эмилия Кирилловна Чегринцева, худощавая, необыкновенно живая, всегда элегантно одетая женщина, декламировала, несколько усеченным, отрывистым способом скандируя свои сложные, богатые образами стихи».
А.И. Бем (Голик). «Скит поэтов» в Праге
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
11 (24) февраля 1904 г. — родилась в Екатеринбурге
1922 г. — окончила в Кишиневе женскую гимназию баронессы фон Ю.П. Гейкинг и напечатала первые стихи в газете «Бессарабское слово»
1927 г. — переехала в Прагу
14 марта 1927 г. — впервые выступила с чтением своих стихов на заседании «Скита поэтов»
1934 г. — стала членом Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии
1936 г. — вышла первая книга стихов «Посещения»
1938 г. — опубликована вторая книга стихов «Строфы»
16 ноября 1989 г. — скончалась в г. Ниход (Чехия)
11 (24) февраля 1904 г. — родилась в Екатеринбурге
1922 г. — окончила в Кишиневе женскую гимназию баронессы фон Ю.П. Гейкинг и напечатала первые стихи в газете «Бессарабское слово»
1927 г. — переехала в Прагу
14 марта 1927 г. — впервые выступила с чтением своих стихов на заседании «Скита поэтов»
1934 г. — стала членом Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии
1936 г. — вышла первая книга стихов «Посещения»
1938 г. — опубликована вторая книга стихов «Строфы»
16 ноября 1989 г. — скончалась в г. Ниход (Чехия)
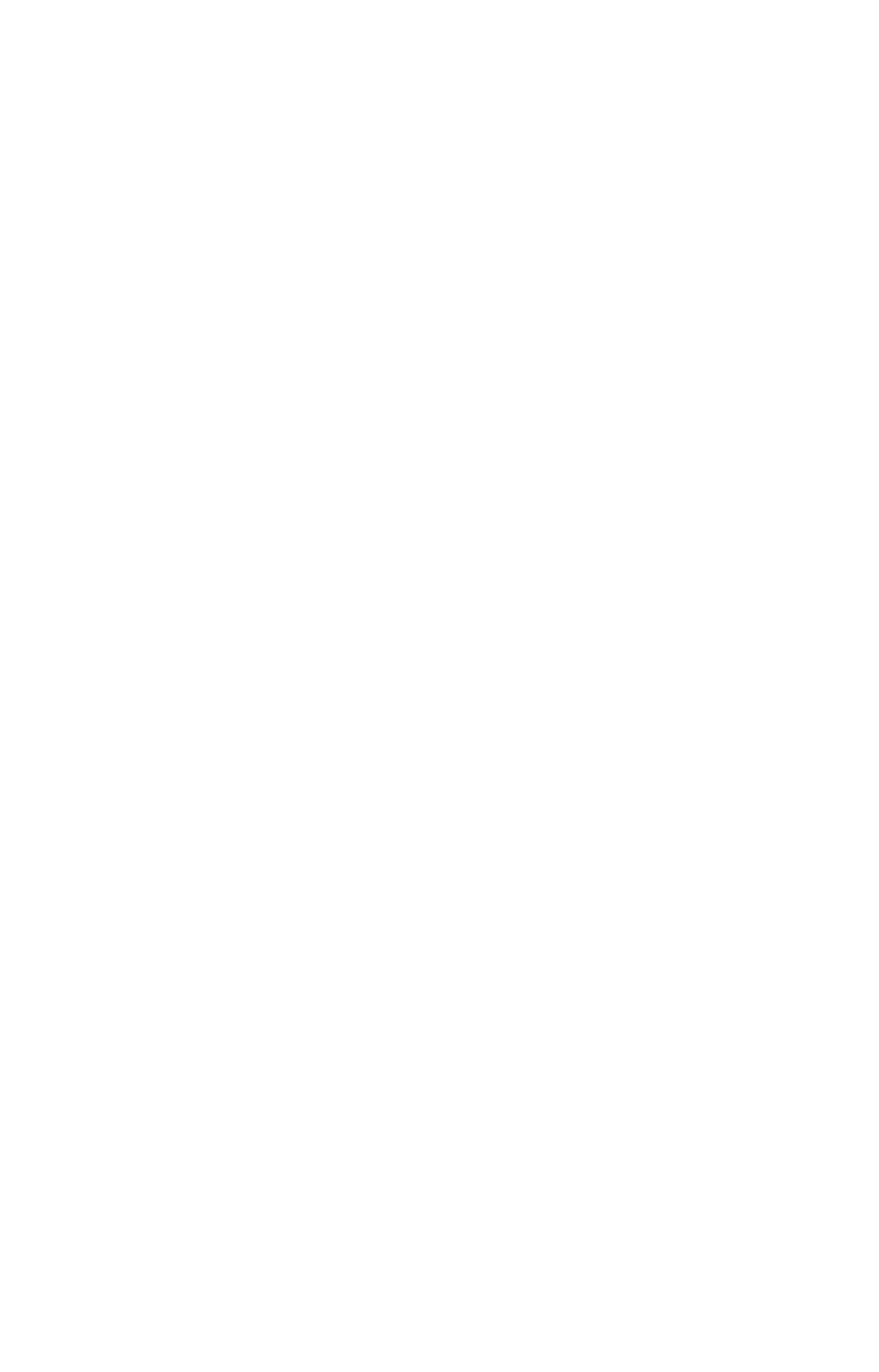
Э.К. Чегринцева. 1940-е гг.
Несколько стихотворений в коллективных сборниках и две тоненькие книжечки — вот и весь опубликованный с 1922 по 1939 год «багаж» поэта Эмилии Чегринцевой. Еще можно найти немногочисленную «обязательную» критику, писанную либо ее наставником Альфредом Бемом, либо молодыми поэтами, товарищами по пражскому объединению «Скит», по случаю появления ее стихов в печати. Впрочем, есть упоминания и у больших «парижан» — Георгия Адамовича и Владислава Ходасевича, но мельком и среди прочих. Отчасти это объясняется тем, что Прага, в отличие от Парижа (более притягательного для русских писателей-эмигрантов), считалась литературной периферией и, к сожалению, изменить своего статуса так и не смогла.
Сегодня в сдержанных биографических справках литературоведы-составители тактично отмечают: мол, и «“критически настроенный” к “пражанам” Георгий Адамович был вынужден признать, что у Чегринцевой “дарование творчески подлинное”». Однако это «признавание» не мешало Адамовичу и до и после говорить о Чегринцевой убийственные вещи, вроде отклика на последнюю ее книгу: «Если просидеть над строфами Чегринцевой часа два, уловить в них кое- что, пожалуй, можно. Но стихи эти не обладают гипнотической силой, которая могла бы нас к такому сидению принудить! Они свистят, пролетают, как ветер, — и как ветер, исчезают, не оставляя в памяти почти ничего». («Последние новости», 1938, 12 мая, № 6255). Еще в сети нетрудно отыскать пару-тройку общих опять же «скитнических» фотографий, где молодая Чегринцева, стоит второй или третьей в первом или следующем ряду. Есть в интернете и небольшой архив из рукописного отдела Пушкинского дома (ИРЛИ), состоящий из десятка писем. Наиболее интересные опубликованы, откомментированы и сопровождены статьей советского литературоведа Олега Малевича. Существует и собрание документов в Праге, но исследователи к нему почти не апеллируют, поэтому и оно проясняет в жизни Эмилии Кирилловны немного. Думается, именно поэтому из статьи в статью кочуют одни и те же факты.
Сегодня в сдержанных биографических справках литературоведы-составители тактично отмечают: мол, и «“критически настроенный” к “пражанам” Георгий Адамович был вынужден признать, что у Чегринцевой “дарование творчески подлинное”». Однако это «признавание» не мешало Адамовичу и до и после говорить о Чегринцевой убийственные вещи, вроде отклика на последнюю ее книгу: «Если просидеть над строфами Чегринцевой часа два, уловить в них кое- что, пожалуй, можно. Но стихи эти не обладают гипнотической силой, которая могла бы нас к такому сидению принудить! Они свистят, пролетают, как ветер, — и как ветер, исчезают, не оставляя в памяти почти ничего». («Последние новости», 1938, 12 мая, № 6255). Еще в сети нетрудно отыскать пару-тройку общих опять же «скитнических» фотографий, где молодая Чегринцева, стоит второй или третьей в первом или следующем ряду. Есть в интернете и небольшой архив из рукописного отдела Пушкинского дома (ИРЛИ), состоящий из десятка писем. Наиболее интересные опубликованы, откомментированы и сопровождены статьей советского литературоведа Олега Малевича. Существует и собрание документов в Праге, но исследователи к нему почти не апеллируют, поэтому и оно проясняет в жизни Эмилии Кирилловны немного. Думается, именно поэтому из статьи в статью кочуют одни и те же факты.
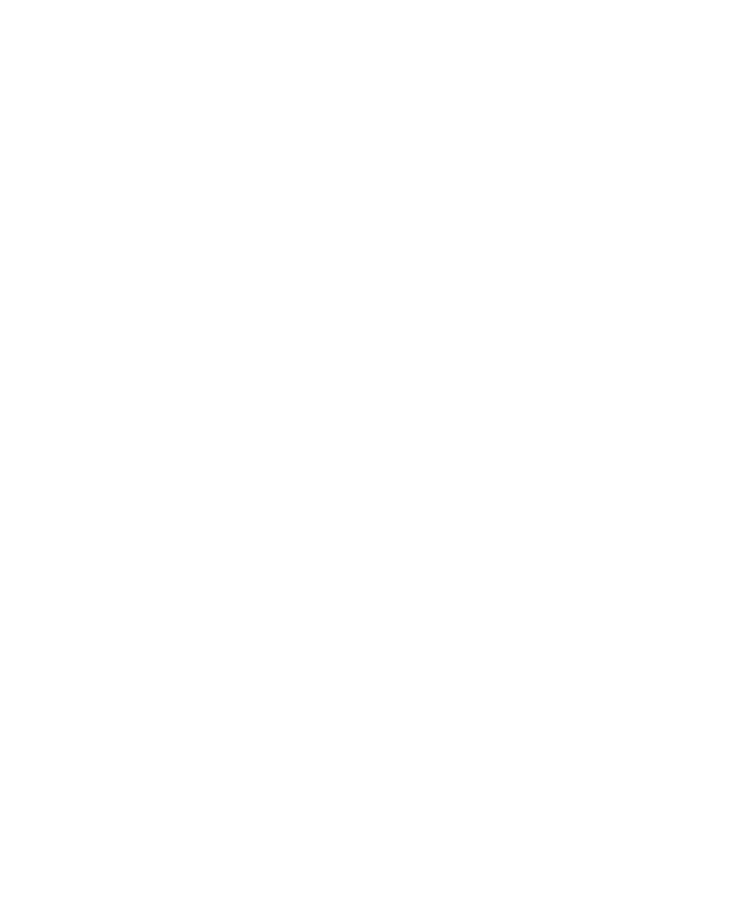
Э.К. Чегринцева. 1930-е гг.
Родилась в Екатеринбурге 24 февраля 1904 года в осетинской православной семье. Отец, Кирилл Куцукович Цегоев, женился дважды, поэтому в доме было много детей: двое мальчиков — Кирилл и Евгений, и три девочки — Лариса, Эмилия, Нина. Почти сразу после рождения Эмилии семья с Урала перебралась в Бессарабию. Поэтому детство и юность Цегоевой прошли в Кишиневе. После аннексии Бессарабии в 1918 году Кишинев отошел королевству Румынии. Что, впрочем, не помешало девушке в 1922 году окончить здесь известную русскую женскую гимназию баронессы фон Ю.П. Гейкинг. И в том же году в газете «Бессарабское слово» вышли в свет ее первые стихи. Уже в 1923–1926 годах литературные опыты Цегоевой печатались и в кишиневской «Бессарабии», и в бухарестской «Нашей речи». В то время она подписывалась как «Э. Милль», «Э. Цегоева» или просто «Ц».
Если верить литературоведу Вячеславу Нечаеву, автору одного из предисловий к современному изданию сочинений Чегринцевой, то эмиграция далась ей значительно легче, чем многим другим поэтам и прозаикам.
Если верить литературоведу Вячеславу Нечаеву, автору одного из предисловий к современному изданию сочинений Чегринцевой, то эмиграция далась ей значительно легче, чем многим другим поэтам и прозаикам.
В 1921 году в Прагу из Константинополя уехал учиться сводный брат Цегоевой, Кирилл, а через год из Кишинева перебралась и старшая сестра Лариса, поступившая в Карлов университет. «Брат учился на гуманитарном юридическом факультете, но одновременно вел литературную, редакторскую и издательскую деятельность, — пишет В. Нечаев, — он был одним из основателей и главным редактором журнала “Студенческие годы” (1922), а впоследствии редактором-издателем пражской газеты “Новости”». Выступал как поэт-сатирик, беллетрист, театральный критик, актер, драматург. В. Нечаев полагает, что в 1927 году, когда Эмилия Кирилловна пере ехала в Прагу и поступила на философский факультет того же Карлова университета, она была не одинока и, в отличие от других эмигрантов, не чувствовала себя потерянной на чужой земле.
К тому же 14 марта 1927 года Цегоева впервые прочла свои стихи на заседании «Скита поэтов» (с 1928 года объединение стало называться просто «Скит»), а 7 ноября этого же года ее приняли в члены (она значилась под № 20 в «Четках» — итоговом списке объединения, составленном вдохновителем пражского сообщества Альфредом Бемом). Этот момент стал поворотным в ее жизни и творчестве. Теперь она постоянно участвовала в коллективных вечерах, бывала на заседаниях общества, где Бем, известный литературовед и профессор Карлова университета, как вспоминает его дочь Ирина, часто читал «своим питомцам лекции по теории литературы, теории стиха и современному литературному процессу».
К тому же 14 марта 1927 года Цегоева впервые прочла свои стихи на заседании «Скита поэтов» (с 1928 года объединение стало называться просто «Скит»), а 7 ноября этого же года ее приняли в члены (она значилась под № 20 в «Четках» — итоговом списке объединения, составленном вдохновителем пражского сообщества Альфредом Бемом). Этот момент стал поворотным в ее жизни и творчестве. Теперь она постоянно участвовала в коллективных вечерах, бывала на заседаниях общества, где Бем, известный литературовед и профессор Карлова университета, как вспоминает его дочь Ирина, часто читал «своим питомцам лекции по теории литературы, теории стиха и современному литературному процессу».
«Была в “Ските” еще молоденькая и талантливая поэтесса из Грузии, стихи которой я еще и до сих пор читаю наизусть. Была она в то время веселая, любила танцевать и вообще, несмотря на свои симпатии к богеме, жила нормальной и даже по нашим масштабам вполне зажиточной жизнью. Она одна из малого количества скитников, дальнейшая судьба которой мне известна. Она вышла замуж за инженера, родила дочку, преподает русский язык, воспитывает внука и кокетничает с советчиками. Пишет ли она еще, не знаю, но ее маленькая книжечка стихов издания “Скита поэтов” может выдержать сравнение с лучшими произведениями советских поэтов».
Т. Бем-Рейзер. «Украденное счастье. Воспоминания» (2008 г.)
Но важно оговориться, вначале «Скит» понимался как ученическое объединение, участники которого изу чали и современную, и литературу прошлого, сочиняли стихи. Но постепенно о поэтах «пражской ноты» стали говорить как об особом ответвлении эмигрантской поэзии и нередко противопоставлять «парижской ноте», вдохновляемой Г.В. Адамовичем, который писал в журнале «Числа»: «Какие должны быть стихи? Чтобы, как аэроплан, тянулись, тянулись по земле и вдруг взлетали… если и не высоко, то со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а все вместе слегка двоилось. Чтобы входило, как игла, и не видно было раны. Чтобы нечего было добавить, некуда было уйти, чтобы “ах!”, чтобы “зачем ты меня оставил?”, и вообще, чтобы человек как будто пил горький, черный, ледяной напиток, “последний ключ”, от которого он уже не оторвется. Грусть мира поручена стихам».
Однако Бем видел в излишней простоте пустоту и полагал, что не стоит игнорировать не только Пушкина, но и опыт советской поэзии. «Если Париж продолжал линию, оборванную революцией, непосредственно примыкая к школе символистов, почти не отразив в себе русского футуризма и его своеобразного преломления в поэзии Б.Пастернака и М. Цветаевой, то Прага прошла и через имажинизм, смягченный лирическим упором С. Есенина, и через В. Маяковского, и через Б. Пастернака. …Думается мне, именно здесь лежит одно из основных различий между “пражской” и “парижской” школами…», — писал Альфред Людвигович в своих «Письмах о литературе».
Неудивительно, что в герметичной, вневременной и по-юношески романтической поэзии Эмилии Цегоевой, на которую, по ее же собственным словам, особенно влияли Пушкин и Лермонтов, Бем увидел идеальное соответствие своим представлениям о том, как нужно делать стихи. Тут и по-имажинистски избыточная образность, вроде: «Расцветай, моя ночь, и касайся / шелковистым подолом людей! / Мы плывем по широкому вальсу / в голубой невесомой ладье. // Опустевшие столики пеной / оседают за нами к стене, / и качается ночь, как сирена, / на блестящей паркетной волне» («Вальс»); и философская глубина рассуждений: «Какая странная и злая / туманом скованная мгла, / созвездья спутавши узлами, / над нашим городом легла!» («Какая странная и злая…»). Впрочем, эти часто по-пастернаковски нарядные стихи, заставляющие читателя вглядываться в себя, а не в окружающий мир (наверное, поэтому приметы времени, равно как и личностные черты, в поэзии Цегоевой намеренно нивелированы) сегодня мало кому понятны. Жизнь, смерть, вечный разговор поэта с музой –главные темы Чегринцевой.
Неудивительно, что в герметичной, вневременной и по-юношески романтической поэзии Эмилии Цегоевой, на которую, по ее же собственным словам, особенно влияли Пушкин и Лермонтов, Бем увидел идеальное соответствие своим представлениям о том, как нужно делать стихи. Тут и по-имажинистски избыточная образность, вроде: «Расцветай, моя ночь, и касайся / шелковистым подолом людей! / Мы плывем по широкому вальсу / в голубой невесомой ладье. // Опустевшие столики пеной / оседают за нами к стене, / и качается ночь, как сирена, / на блестящей паркетной волне» («Вальс»); и философская глубина рассуждений: «Какая странная и злая / туманом скованная мгла, / созвездья спутавши узлами, / над нашим городом легла!» («Какая странная и злая…»). Впрочем, эти часто по-пастернаковски нарядные стихи, заставляющие читателя вглядываться в себя, а не в окружающий мир (наверное, поэтому приметы времени, равно как и личностные черты, в поэзии Цегоевой намеренно нивелированы) сегодня мало кому понятны. Жизнь, смерть, вечный разговор поэта с музой –главные темы Чегринцевой.
Потом опять в ознобе
вдохновенья
душа кликушей бьется
на листе.
Желанных слов невоплотимы
тени —
вставай встречать непрошеных
гостей!
И только Муза, кроткая
сиделка,
снимает жар прохладною рукой.
Так дождь осенний, медленный
и мелкий,
Неслышно льет над вспененной
рекой.
вдохновенья
душа кликушей бьется
на листе.
Желанных слов невоплотимы
тени —
вставай встречать непрошеных
гостей!
И только Муза, кроткая
сиделка,
снимает жар прохладною рукой.
Так дождь осенний, медленный
и мелкий,
Неслышно льет над вспененной
рекой.
(«Болезнь»)
«Э. Чегринцеву упрекали в известной “суховатости”, малой музыкальности ее стиха. Я готов до известной меры с этим согласиться. Но при одной существенной оговорке. Объясняется это не пренебрежением к форме, как можно было бы подумать на основании отдельных случайных ее стихов, а особой установкой на “задержку” внимания.
…Вместе со своим поколением Э. Чегринцева разделяет пессимистическое миронастроение. Но как мало похож ее пессимизм на тоскливую лирику ее парижских собратьев. Обобщающая сила ее поэзии делает тему “судьбы”, даже взятую в личном разрезе полной значения».
…Вместе со своим поколением Э. Чегринцева разделяет пессимистическое миронастроение. Но как мало похож ее пессимизм на тоскливую лирику ее парижских собратьев. Обобщающая сила ее поэзии делает тему “судьбы”, даже взятую в личном разрезе полной значения».
А.Л. Бем, литературовед. Из вступительного слова на вечере Э.К. Чегринцевой в Праге. 2 марта 1936 г.
Ни любви, ни страстей в привычном понимании, ни рассуждений об эмигрантской доле, только надмирная, примиряющая своей беспредметностью, лирика, в которой шахматный турнир жизни, «Саван на лоб сдвинув слегка, / смерть сторожит» (поэма «Шахматы»).
«Вот я часто думал о Вас», — писал Бем Чегринцевой в 1940 году, когда активность в «Ските» почти сошла на нет, — думал, как удивительно Вы размежевали себя — одна будничная Эм.(илия) Кир.(илловна), довольно обыкновенная, привычная в быту, милая и общительная эмигрантская дама, а другая — так неожиданно (иногда даже до жутковатого) непохожая на первую поэт в своих стихах. Из каких душевных тайников это берется, и откуда это накоплено, и когда это пережито и прочувствовано? Это для меня всегда было загадкой и поч-ти чудом. Ни разу за все наше долголетнее знакомство Вы не приоткрыли этого тайника, из которого Вы черпали для своего творчества». Не приоткрывают этого тайника и стихи поэтессы, направленные на внутреннее философское созерцание, они не рисуют портрета (как в случае Ходасевича, Ахматовой, Северянина или того же Пастернака), не дают четкого временного среза. Мелькают только пунктиром «Кишенев», «Прага», имена современников и классиков… И все же внимательный читатель, невольно прислушивается к этому лирическому ветру, как выразился Адамович, чтобы уловить едва ощутимую вибрацию стиха: «Дни тяжелы, как груз аэростата, / мешки с песком, — песок зыбучих слов, / Сдавайся, сердце, ты уже распято / вскипевшим гневом темных городов. / Как бьешься ты! И радости не слышишь — / гудит простор и ждет возмездья кровь. / И с каждым днем беспомощней и тише / взывающая в радио любовь. / Зла и бедна прославленная юность; / морщины жгут сухую кожу лба, / молчат и рвутся и ржавеют струны… / Встань, безработная судьба!» («Скит», 4-й сборник, 1937).
«Вот я часто думал о Вас», — писал Бем Чегринцевой в 1940 году, когда активность в «Ските» почти сошла на нет, — думал, как удивительно Вы размежевали себя — одна будничная Эм.(илия) Кир.(илловна), довольно обыкновенная, привычная в быту, милая и общительная эмигрантская дама, а другая — так неожиданно (иногда даже до жутковатого) непохожая на первую поэт в своих стихах. Из каких душевных тайников это берется, и откуда это накоплено, и когда это пережито и прочувствовано? Это для меня всегда было загадкой и поч-ти чудом. Ни разу за все наше долголетнее знакомство Вы не приоткрыли этого тайника, из которого Вы черпали для своего творчества». Не приоткрывают этого тайника и стихи поэтессы, направленные на внутреннее философское созерцание, они не рисуют портрета (как в случае Ходасевича, Ахматовой, Северянина или того же Пастернака), не дают четкого временного среза. Мелькают только пунктиром «Кишенев», «Прага», имена современников и классиков… И все же внимательный читатель, невольно прислушивается к этому лирическому ветру, как выразился Адамович, чтобы уловить едва ощутимую вибрацию стиха: «Дни тяжелы, как груз аэростата, / мешки с песком, — песок зыбучих слов, / Сдавайся, сердце, ты уже распято / вскипевшим гневом темных городов. / Как бьешься ты! И радости не слышишь — / гудит простор и ждет возмездья кровь. / И с каждым днем беспомощней и тише / взывающая в радио любовь. / Зла и бедна прославленная юность; / морщины жгут сухую кожу лба, / молчат и рвутся и ржавеют струны… / Встань, безработная судьба!» («Скит», 4-й сборник, 1937).
В 1930 году Эмилия Кирилловна вышла замуж за инженера Сергея Валерьяновича Чегринцева, взяла его фамилию и с тех пор подписывала свои стихи ей. В 1933 году у них родилась дочь Марина. Первый сборник «Посещения», опубликованный в Таллине в 1936 году (в него вошли тексты 1929–1936 годов, поэма «Шахматы» и «Стихи о Гулливере»), она посвятила мужу. Книга в целом была хорошо принята критикой. Второй сборник «Строфы» (Варшава, 1938) уже не вызывал в литературной среде такого единогласия. Еще Чегринцева участвовала в нескольких коллективных книгах «Скита». Некоторые помогала Бему редактировать. Одно время собрания общества проходили на квартире Чегринцевых.
Однако постепенно активность поэтов «Скита» сходила на нет: то ли потому, что объединение исчерпало себя (четвертым общим томом были недовольны даже члены кружка), то ли потому, что наступало совсем другое время.
До 1940 года Чегринцева печаталась в «Мече», «Современных записках», «Нови» и других эмигрантских изданиях. В 1934 году она вступила в Союз русских писателей и журналистов Чехословакии. Также известно, что после «освобождения Чехословакии от гитлеровской оккупации была культурным референтом Союза советских граждан» и публиковалась в его журнале. В 1946 году приняла советское гражданство, не раз выезжала в СССР. Работала учительницей, преподавала в чешских гимназиях русский язык. В 1940-х Чегринцева перестала публиковать стихи и по непонятной причине замолчала на 50 лет. Принято считать, что поэзию она не оставила, написанное за эти годы не издано и хранятся в черновиках. Но так ли это — покажет время и дальнейшие исследования творчества. А пока нам остаются только опубликованные строки: «Цепляясь за последний миг — / хоть миг еще на этом свете! — / мы пишем много странных книг / и не стареем на портрете».
Однако постепенно активность поэтов «Скита» сходила на нет: то ли потому, что объединение исчерпало себя (четвертым общим томом были недовольны даже члены кружка), то ли потому, что наступало совсем другое время.
До 1940 года Чегринцева печаталась в «Мече», «Современных записках», «Нови» и других эмигрантских изданиях. В 1934 году она вступила в Союз русских писателей и журналистов Чехословакии. Также известно, что после «освобождения Чехословакии от гитлеровской оккупации была культурным референтом Союза советских граждан» и публиковалась в его журнале. В 1946 году приняла советское гражданство, не раз выезжала в СССР. Работала учительницей, преподавала в чешских гимназиях русский язык. В 1940-х Чегринцева перестала публиковать стихи и по непонятной причине замолчала на 50 лет. Принято считать, что поэзию она не оставила, написанное за эти годы не издано и хранятся в черновиках. Но так ли это — покажет время и дальнейшие исследования творчества. А пока нам остаются только опубликованные строки: «Цепляясь за последний миг — / хоть миг еще на этом свете! — / мы пишем много странных книг / и не стареем на портрете».
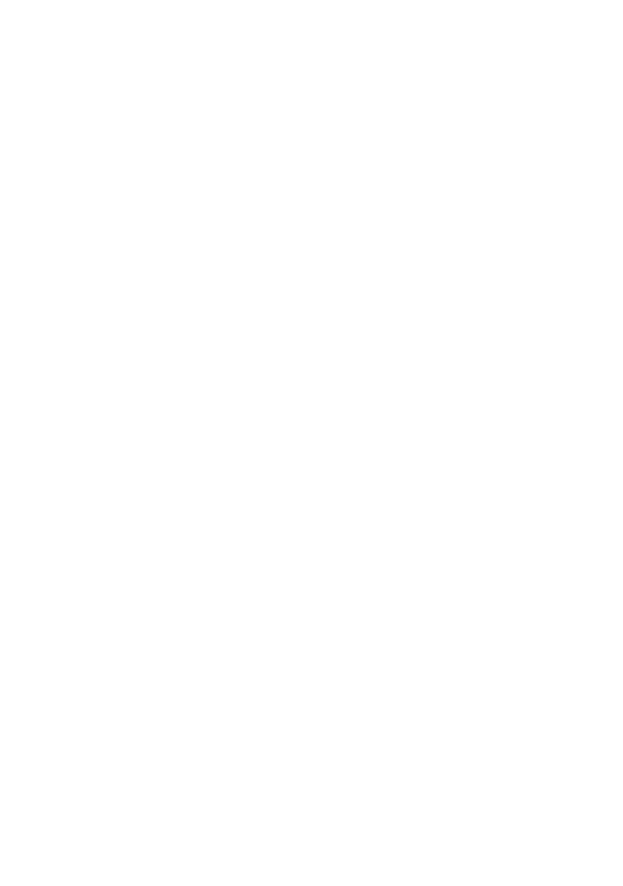
Вацлавская площадь
Переехав в столицу недавно созданного европейского государства — Чехословакии, Э.К. Чегринцева почти сразу была принята в литературное объединение «Скит» и стала одним из наиболее активных его участников