Русский в Лицзяне
Петр Николаевич Гуляр
(1901–1978)
(1901–1978)
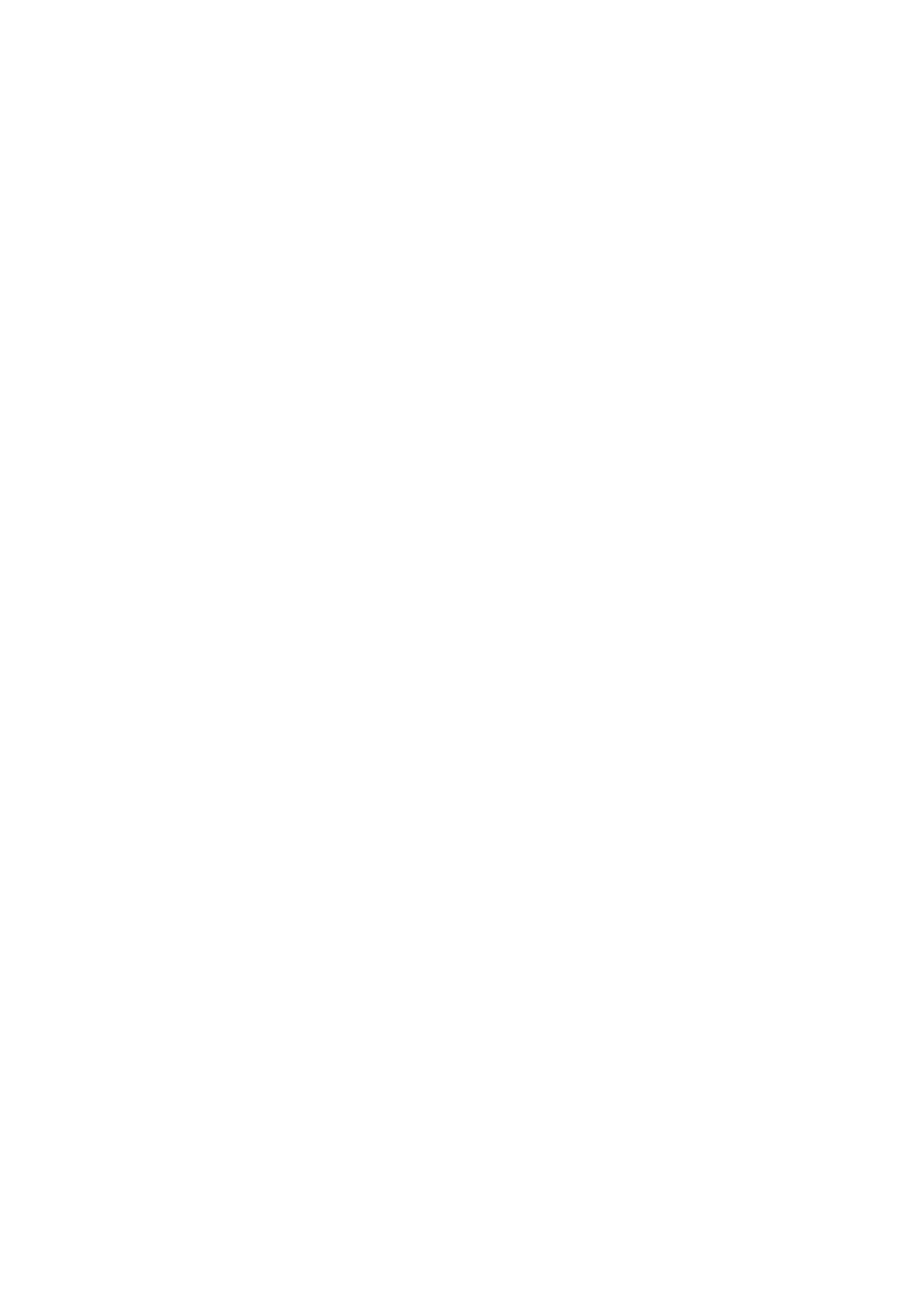
В забытом королевстве
В результате попыток покинуть Россию после прихода большевиков к власти Петр Гуляр оказался в странах Востока. Он посвятил много лет исследованию древнего королевства
Лицзян и сохранил память о нем для потомков
В результате попыток покинуть Россию после прихода большевиков к власти Петр Гуляр оказался в странах Востока. Он посвятил много лет исследованию древнего королевства
Лицзян и сохранил память о нем для потомков
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
1901 г. — родился в Москве
1918–1920 гг. — попытки вместе с матерью добраться до Китая; обосновался в Шанхае
1942 г. — назначен представителем китайского правительства по развитию кооперативного движения в Лицзяне
1949 г. — вынужден бежать из Китая
1955 г. — становится служащим МОТ для оказания помощи в развитии кооперативных обществ
в Сараваке, работает по линии МОТ в Бирме (ныне Мьянма), Индии и Пакистане
5 июня 1978 г. — скончался в Сингапуре
1901 г. — родился в Москве
1918–1920 гг. — попытки вместе с матерью добраться до Китая; обосновался в Шанхае
1942 г. — назначен представителем китайского правительства по развитию кооперативного движения в Лицзяне
1949 г. — вынужден бежать из Китая
1955 г. — становится служащим МОТ для оказания помощи в развитии кооперативных обществ
в Сараваке, работает по линии МОТ в Бирме (ныне Мьянма), Индии и Пакистане
5 июня 1978 г. — скончался в Сингапуре
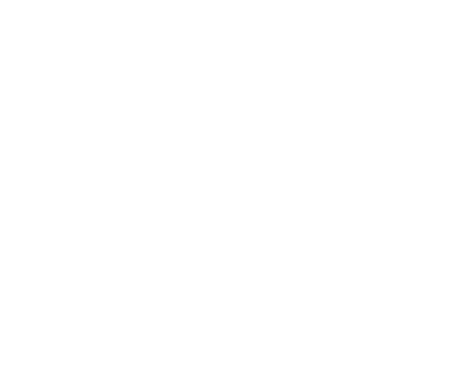
П.Н. Гуляр в Тибете [1940-е гг.]
О Петре Гуляре в нашем насыщенном информацией мире известно немного: русский географ и писатель, который прожил всю сознательную жизнь в Китае и Сингапуре, помимо русского в совершенстве знал китайский, английский, итальянский, французский и другие языки, описал самобытность народов юга Китая, Тибета и Малайзии середины ХХ века как бы изнутри. По-разному складывались судьбы тех, кто вдали от Родины жил и работал, посвятил себя изучению природы и людей чужбины. Например, англичанин Редьярд Киплинг был блестящим представителем колониальной литературы. Он много писал о жизни в Индии и в 1907 году был удостоен Нобелевской премии «за мужественность стиля». А Петр Гуляр, родившийся в России и оказавшийся после Октябрьского переворота в Китае, состоял на службе у китайского правительства, писал тоже по-английски об «иных цивилизациях». И оказался забытым и у себя на родине, и среди исследователей природы и народов Азии, хотя его книги о провинции Юньане на юге Китая, о Тибете и Малайзии, вышедшие в знаменитом издательстве «Джон Мюррей», составляют золотой фонд географической литературы.
Петр Николаевич Гуляр (Гулларт) родился в 1901 году в Москве. В предисловии к книге «Забытое королевство», изданной в 1957 году, он так пишет о себе и семье: «Я родился в России пятьдесят с лишним лет назад. Потрясения, охватившие мир в начале столетия, застали меня в самом раннем возрасте и принесли с собой настолько внезапные и бурные перемены, что свою жизнь я всегда воспринимал скорее как череду многочисленных, почти ничем не объединенных жизней… Я прекрасно помню и нашу бурлящую московскую жизнь, и более тихую и изысканную атмосферу, окружавшую нас в Париже…»
Петр Николаевич Гуляр (Гулларт) родился в 1901 году в Москве. В предисловии к книге «Забытое королевство», изданной в 1957 году, он так пишет о себе и семье: «Я родился в России пятьдесят с лишним лет назад. Потрясения, охватившие мир в начале столетия, застали меня в самом раннем возрасте и принесли с собой настолько внезапные и бурные перемены, что свою жизнь я всегда воспринимал скорее как череду многочисленных, почти ничем не объединенных жизней… Я прекрасно помню и нашу бурлящую московскую жизнь, и более тихую и изысканную атмосферу, окружавшую нас в Париже…»
«Долгими зимними вечерами она [бабушка Пелагея. — Прим. ред.] рассказывала мне длинные истории о том, как ее муж и его отец путешествовали в Китай, Монголию и другие сказочные страны, где когда-то правили пресвитер Иоанн и Чингисхан. Затаив дыхание, я слушал ее рассказы и разглядывал старые расписные коробки из-под чая, на которых прелестные китаянки угощали этим напитком из хрупких фарфоровых чашек бородатых мандаринов с веерами и в богатых головных уборах. …В нагретом воздухе бабушкиной комнаты еще витал слабый аромат этих чаев».
П.Н. Гуляр. «Забытое королевство» (1957 г.)
Отец Гуляра умер, когда сыну было два года. Он служил куратором московских музеев. Дух российской культуры окружал семью до конца их московской жизни. Его мать, Мария Расторгуева, происходила из богатой старообрядческой купеческой семьи, торговавшей чаем и другими товарами с Китаем, Монголией, Туркестаном и Тибетом. Она была женщиной начитанной и интеллектуальной — ее круг общения составляли выдающиеся ученые и философы; она писала стихи, занималась живописью, для образования сына приглашала частных преподавателей.
В отличие от большинства родственников, после Октябрьского переворота и начавшейся Гражданской войны мать с Петром отправились не в Париж, а в Китай. Но первая попытка их побега была неудачной: они намеревались добраться до Шанхая через Туркестан, но и Бухара, и Самарканд в то время уже находились «…в объятьях кровопролитного террора». Вторая попытка оказалась успешной, и они оказались во Владивостоке, а затем в «спокойном»
Шанхае.
В отличие от большинства родственников, после Октябрьского переворота и начавшейся Гражданской войны мать с Петром отправились не в Париж, а в Китай. Но первая попытка их побега была неудачной: они намеревались добраться до Шанхая через Туркестан, но и Бухара, и Самарканд в то время уже находились «…в объятьях кровопролитного террора». Вторая попытка оказалась успешной, и они оказались во Владивостоке, а затем в «спокойном»
Шанхае.
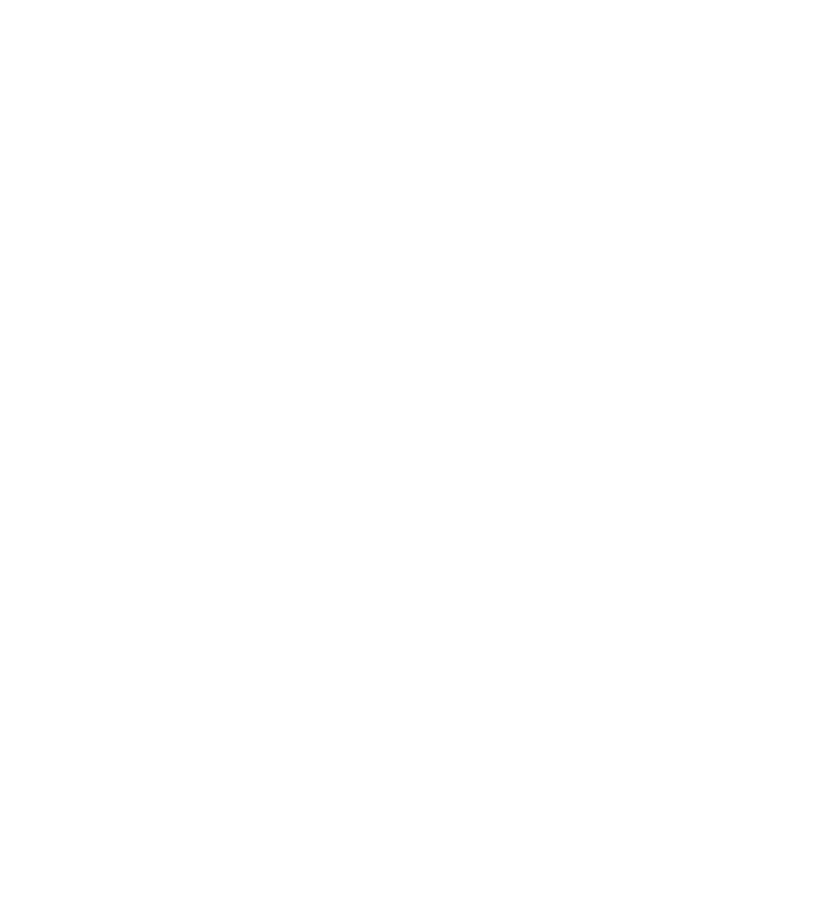
Лицзянский парк. Фотография П.Н. Гуляра
Мы мало знаем о первых годах жизни Гуляра в Китае. Ясно, что это было время забот и тревог, поиска средств к существованию, адаптации к жизни в стране с тысячелетней историей и разоренной многочисленными интервенциями. Здоровье матери, по-видимому, не выдержало этих испытаний. Гуляр пишет в воспоминаниях: «…В 1924 году умерла мать… В тоске я отправился к знаменитому Западному озеру поблизости от Ханчжоу, где по невероятно счастливой случайности повстречал монаха-даоса. Мы тут же подружились — к тому времени я уже овладел китайским, — и он отвел меня в свой монастырь…»
Так жизнь Петра Николаевича на долгие 25 лет оказывается тесно связанной с Поднебесной. В Шанхае он зарабатывал на жизнь в коммерческих фирмах «экспертом по китайским древностям, нефриту и редким сортам чая». В 1931 году он поступил на работу гидом «Америкэн экспресс». В его обязанности входило сопровождение клиентов коммерческих фирм в поездках по Китаю, Индокитаю и Японии. Гуляр много путешествовал по стране и сам, отдавая предпочтение старинным городам и монастырям. В начале Второй Китайско-японской войны (1937–1945) Гуляр поступил на службу в «Китайские индустриальные кооперативы», и в 1939 году получил предложение стать представителем китайского правительства по развитию кооперативов сначала в Сикане (с 1941 года), а потом и в Лицзяне (1942). Добирался он до места службы долго, вместе с беженцами и американскими миссионерами, спасавшимися из Пекина и занятого японцами Шанхая. На первых порах служащему-иностранцу приходилось тяжело. Вдали от центра местные чиновники вели себя безнаказанно и конечно же старались избавиться от принципиального инспектора, хорошо разбирающегося в тонкостях местной бюрократии.
Так жизнь Петра Николаевича на долгие 25 лет оказывается тесно связанной с Поднебесной. В Шанхае он зарабатывал на жизнь в коммерческих фирмах «экспертом по китайским древностям, нефриту и редким сортам чая». В 1931 году он поступил на работу гидом «Америкэн экспресс». В его обязанности входило сопровождение клиентов коммерческих фирм в поездках по Китаю, Индокитаю и Японии. Гуляр много путешествовал по стране и сам, отдавая предпочтение старинным городам и монастырям. В начале Второй Китайско-японской войны (1937–1945) Гуляр поступил на службу в «Китайские индустриальные кооперативы», и в 1939 году получил предложение стать представителем китайского правительства по развитию кооперативов сначала в Сикане (с 1941 года), а потом и в Лицзяне (1942). Добирался он до места службы долго, вместе с беженцами и американскими миссионерами, спасавшимися из Пекина и занятого японцами Шанхая. На первых порах служащему-иностранцу приходилось тяжело. Вдали от центра местные чиновники вели себя безнаказанно и конечно же старались избавиться от принципиального инспектора, хорошо разбирающегося в тонкостях местной бюрократии.
«…Как научил меня даосизм, следовало практиковать недеяние. Вопреки тому, что думают многие жители Запада, чей разум не способен вместить в себя учение даосизма, это вовсе не означает полную пассивность, отсутствие любых действий и любой инициативы. На самом деле это означает, что вы принимаете в жизненном процессе активное участие, но не пытаясь противостоять потоку событий, а вливаясь в него, чтобы избежать поглощения и уничтожения. Многие препятствия, борьба с которыми грозит окончиться печально, в действительности можно обойти. Не стоит слишком умничать и настаивать на своем. …Даосизм учит: с тем, кто не вступает в ссоры, никто не сумеет поссориться».
П.Н. Гуляр. «Забытое королевство» (1957 г.)
Почти 10 лет в качестве инспектора Петр Гуляр работал в одном из самых отдаленных районов Китая, путешествовал в Тибет и другие районы «проживания местных племен» граничащей с Вьетнамом, Лаосом, Тибетом провинции Юньнань, основу населения которой составляли крестьяне. В те годы два события встряхнули местную жизнь: строительство Бирманской дороги, единственной на юге Китая, и эвакуация в Куньмин китайской интеллигенции, в том числе Нанкинского университета, что позволило на время войны считать город «интеллектуальной столицей» страны.
И еще один вид деятельности Гуляра в эти годы нельзя не упомянуть. При поддержке Красного Креста он был фельдшером, снабжал больных лекарствами. Как он сам отмечал, поток посетителей был до шестидесяти человек в день. В Лицзяне не было ни врачей, ни больниц.
И еще один вид деятельности Гуляра в эти годы нельзя не упомянуть. При поддержке Красного Креста он был фельдшером, снабжал больных лекарствами. Как он сам отмечал, поток посетителей был до шестидесяти человек в день. В Лицзяне не было ни врачей, ни больниц.
В глухом уголке горной провинции Юньнань среди варваров-инородцев китайские чиновники «с севера» чувствовали себя неуютно. Здесь суровый высокогорный климат, непривычная пища, дикие горцы, всегда готовые пустить в ход нож. Как писал Петр Гуляр, «…множество китайцев, служивших в Лицзяне, было заколото ножом или убито иным образом». Именно здесь надо было внедрять кооперативное движение. Уже шла война с Японией, когда в Лицзяне стало налаживаться промышленное производство, например текстильное, начали строиться дороги. Гуляр, хоть и чувствовал себя поначалу чужестранцем, быстро освоился, смог наладить отношения с представителями почти всех народов, насе ляющих эти места, — от благородных ицзя (ицзу, носу, и) и дружелюбных наси, у которых царил матриархат, до загадочных боа (бай). Он для них хоть и был пришлым, но не ханьцем — представителем самой многочисленной народности Китая. Это помогало, к тому же он легко овладевал языками местных племен. Его скоро признали за своего — за лицзянца, с которым можно выпить, обсудить последние сплетни, получить помощь, если болен. Многоголосье Лицзяня настолько полюбилось Гуляру, что в итоге книга о нем и его народах оказалась лишенной избыточности «антропологических наблюдений», свойственных многим запискам путешественников, полных снисходительных взглядов европейца на средневековый быт отсталых народов, нет в ней и бездумной, часто отталкивающей читателя документальности. Мы видим пример достоверного географического повествования и одновременно восхищаемся настоящими приключениями, случившимися с автором (чего стоят, например, описания встреч с разбойниками).
«Гуляр проницательно рассказал о сложно устроенной цивилизации, о соцветии разных культур, о тибетцах, ицзу, боа, миньцзя, хэцзинских бандитах и ламаистских затворниках. Но ему никогда не удалось бы сделать это столь увлекательно и объемно, поддайся он хоть на миг высокомерию к “простодушным туземцам”… Гуляр открыт всему, что видит, и рад собственному пониманию мира, в котором на свадьбах танцуют всю ночь, умерших поминают с улыбкой и где время — не враг, а “добрый друг и учитель”».
М.А. Кучерская.
“Забытое королевство” Петра Гуляра» (2013 г.)
В тот период Гуляр был дружен с Джозефом Роком, известным американским географом, ботаником и лингвистом австрийского происхождения. Несомненно, эта встреча стимулировала его литературное творчество.
Эта сложная и одновременно счастливая жизнь в Лицзяне заканчивается в 1949 году, когда к власти в Китае приходят коммунисты. Гуляр был вынужден бежать из Китая через Бирму в Сингапур. Тем, кто работал на Гоминьдан, поддерживаемый США, в том числе и таким государственным служащим, как Гуляр, грозили репрессии. А что же стало с Лицзяном, «забытым королевством», без того, кто воспел его красоту для всего мира? Оно пережило годы лишений, «культурной революции», индустриализации. Сейчас Лицзян — городской округ в южнокитайской провинции Юньнань, на берегу реки Юйлунхэ. В древнем городе, внесенном в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, есть гостиница Peter Goullart Boutique Inn в память о герое этого очерка.
Эта сложная и одновременно счастливая жизнь в Лицзяне заканчивается в 1949 году, когда к власти в Китае приходят коммунисты. Гуляр был вынужден бежать из Китая через Бирму в Сингапур. Тем, кто работал на Гоминьдан, поддерживаемый США, в том числе и таким государственным служащим, как Гуляр, грозили репрессии. А что же стало с Лицзяном, «забытым королевством», без того, кто воспел его красоту для всего мира? Оно пережило годы лишений, «культурной революции», индустриализации. Сейчас Лицзян — городской округ в южнокитайской провинции Юньнань, на берегу реки Юйлунхэ. В древнем городе, внесенном в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, есть гостиница Peter Goullart Boutique Inn в память о герое этого очерка.
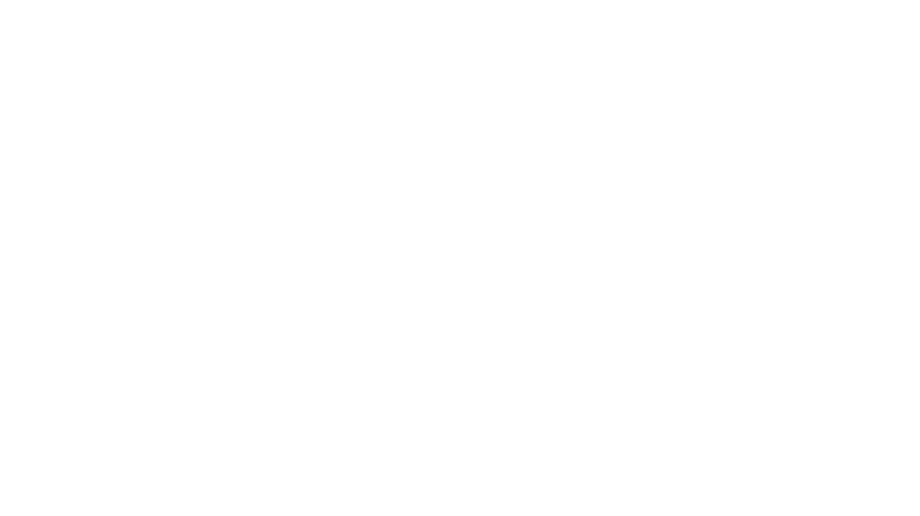
П.Н. Гуляр (сидит в центре) среди коллег. 1960-е гг.
В 1955 году Гуляр был «завербован» подразделением ООН — Международной организацией труда (МОТ) для оказания помощи в развитии кооперативных обществ в Сараваке (штат Малайзии, расположенный на о. Калимантан) среди местных китайских фермеров и коренных племен. Рекомендуя Гуляра на эту должность, директор миссии МОТ в Азии написал: «…Он, несомненно, жесткий, способный терпеть самые грубые условия… пить воду, которая убила бы любого обычного человека…»
Всего Гуляр принял участие в девяти миссиях МОТ: работал в Бирме (ныне Мьянма), Индии и Пакистане. Но годовой контракт в Сараваке был, наверное, одним из самых сложных и в то же время полезным и необычным. Гуляр вспоминает, что его работа предполагала поездки в отдаленные районы страны, чтобы открывать кооперативы и магазины, где люди могли бы «покупать товары по справедливой цене». «…Мне приходится много путешествовать либо в небольших каноэ по рекам и ручьям джунглей, либо пешком, пробираясь через мили болот джунглей на ненадежно сбалансированных бревнах (батангах) или досках и спать в …джунглях… и подвергаясь укусам насекомых», — признавался он в книге «Река Белой лилии: жизнь в Сараваке». Он нашел местных жителей, несмотря на ставшие известными акты жестокости «охотников за головами», дружелюбными, еду удивительно вкусной, а природу бесподобной.
Всего Гуляр принял участие в девяти миссиях МОТ: работал в Бирме (ныне Мьянма), Индии и Пакистане. Но годовой контракт в Сараваке был, наверное, одним из самых сложных и в то же время полезным и необычным. Гуляр вспоминает, что его работа предполагала поездки в отдаленные районы страны, чтобы открывать кооперативы и магазины, где люди могли бы «покупать товары по справедливой цене». «…Мне приходится много путешествовать либо в небольших каноэ по рекам и ручьям джунглей, либо пешком, пробираясь через мили болот джунглей на ненадежно сбалансированных бревнах (батангах) или досках и спать в …джунглях… и подвергаясь укусам насекомых», — признавался он в книге «Река Белой лилии: жизнь в Сараваке». Он нашел местных жителей, несмотря на ставшие известными акты жестокости «охотников за головами», дружелюбными, еду удивительно вкусной, а природу бесподобной.
В 1960-е годы, уйдя на пенсию, Петр Гуляр поселился в Сингапуре, где на английском языке написал все свои книги, ставшие классикой ориенталистики XX века. Скончался он там же 5 июня 1978 года после долгой болезни в доме своего друга Десмонда Нейла.
Чем же эмигрантская судьба Гуляра отличается от сотен биографий других русских эмигрантов? Можно думать, что не только вектором «бегства»: не на Запад, а на Восток. Он не ностальгировал о «потерянной Родине», хотя, как мы видим, носил ее частицу в сердце, а искал (и находил!) новую по культурному укладу и отношениям между людьми страну. То, что она оказалась расположенной рядом с Тибетом, не случайность. Можно вспомнить увлечения матери Гуляра теософией и учением Елены Блаватской о всемирном братстве и Шамбале и то, что у самого Петра был учитель по теософии. Вот и Гуляр увидел в королевстве Лицзян свою «страну мечты», населенную мудрым и добрым народом.
Чем же эмигрантская судьба Гуляра отличается от сотен биографий других русских эмигрантов? Можно думать, что не только вектором «бегства»: не на Запад, а на Восток. Он не ностальгировал о «потерянной Родине», хотя, как мы видим, носил ее частицу в сердце, а искал (и находил!) новую по культурному укладу и отношениям между людьми страну. То, что она оказалась расположенной рядом с Тибетом, не случайность. Можно вспомнить увлечения матери Гуляра теософией и учением Елены Блаватской о всемирном братстве и Шамбале и то, что у самого Петра был учитель по теософии. Вот и Гуляр увидел в королевстве Лицзян свою «страну мечты», населенную мудрым и добрым народом.
Аркадий Тишков
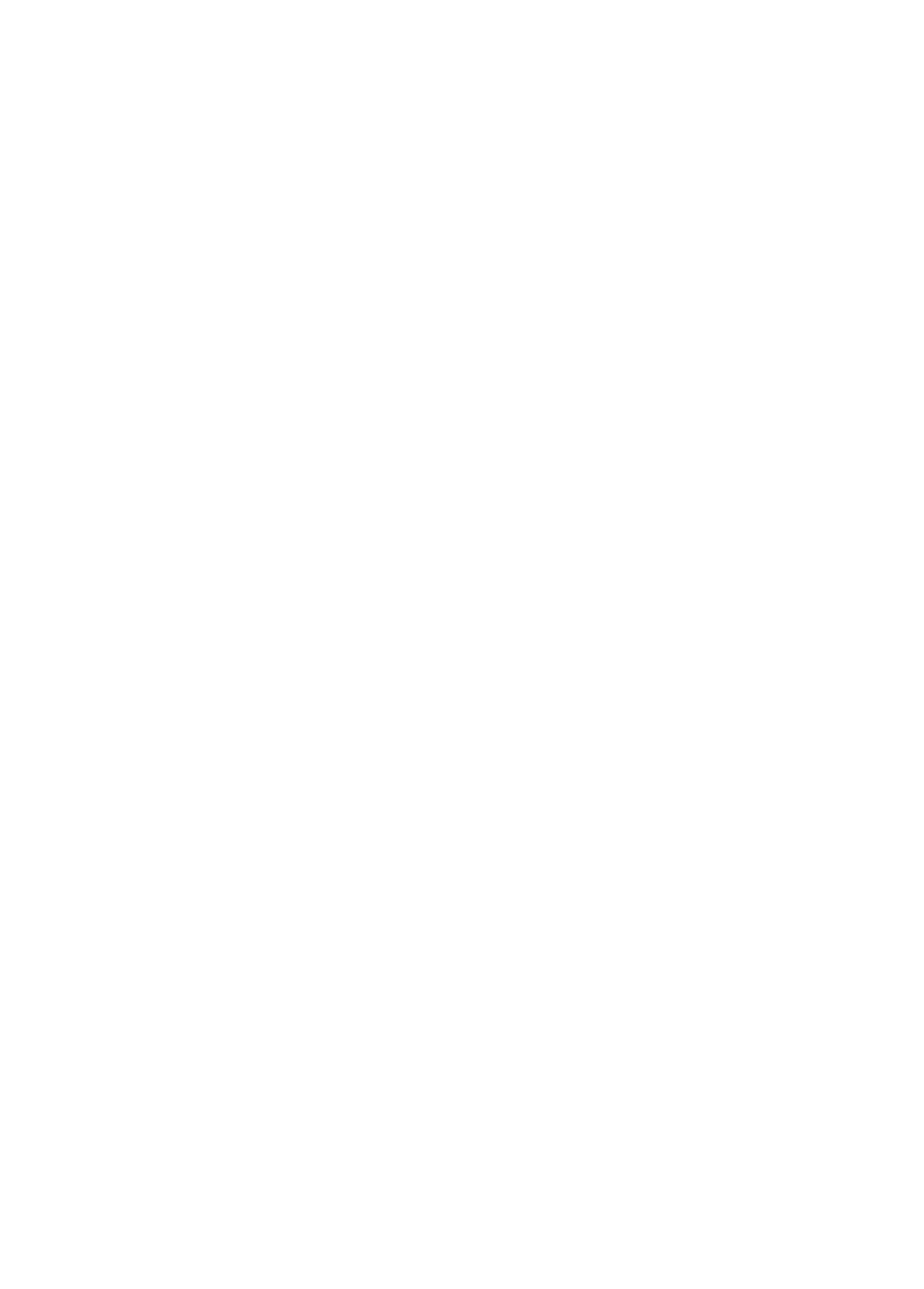
Экзотика китайских провинций
Петр Гуляр, русский путешественник, исследователь и писатель, и его друг Джозеф Рок, американский натуралист, географ и лингвист, много времени проводили в китайских провинциях. Однако в 1949 году, с приходом к власти в Китае коммунистов, Гуляр был вынужден покинуть страну