Пути и перепутья русского богословия
Георгий Васильевич Флоровский
(1893–1979)
(1893–1979)
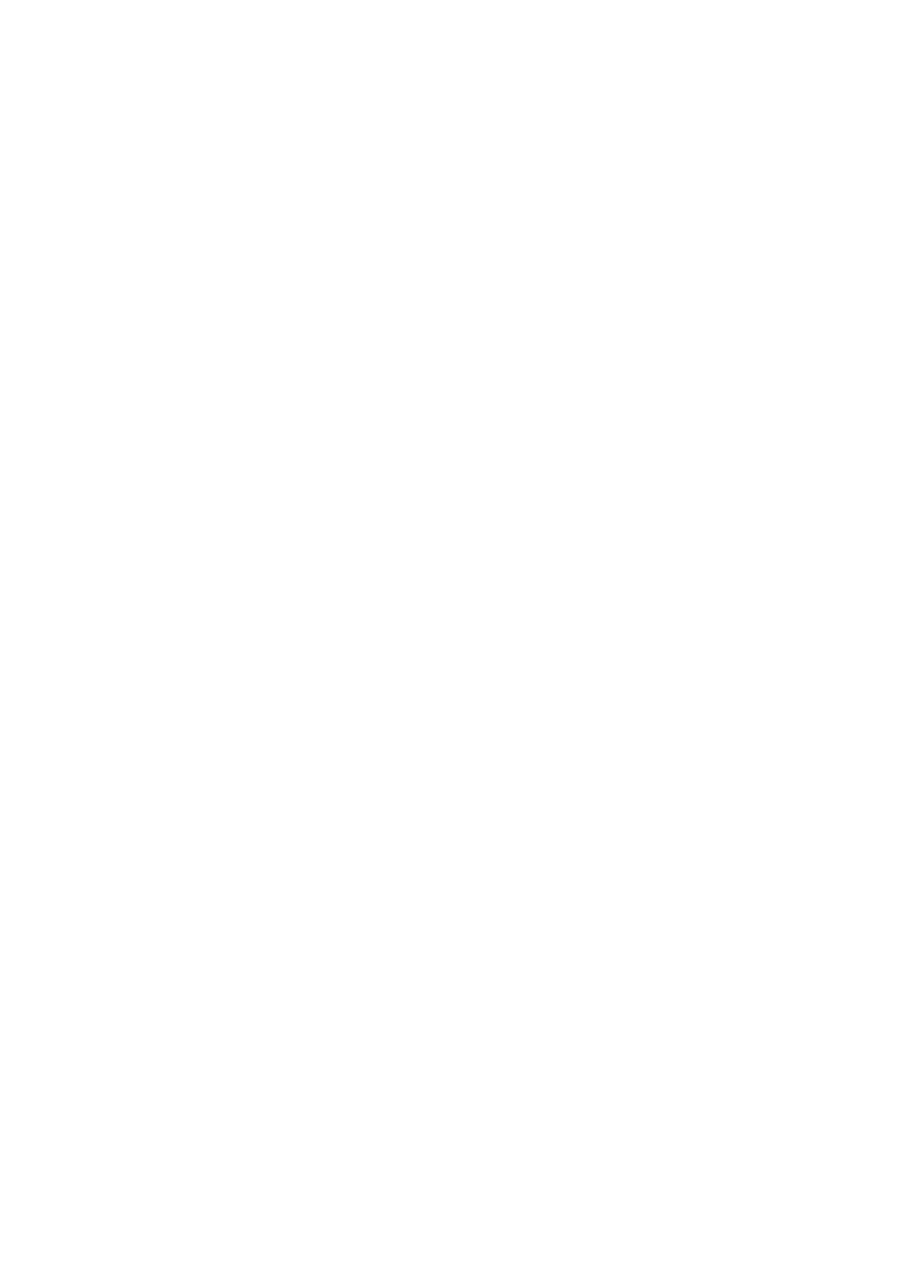
В раздумьях
В 1931 году Г. В. Флоровский был рукоположен в сан диакона, а в 1932-м — в священники. Рукоположение проводил митрополит Евлогий (Георгиевский), выдающийся церковный деятель и богослов
В 1931 году Г. В. Флоровский был рукоположен в сан диакона, а в 1932-м — в священники. Рукоположение проводил митрополит Евлогий (Георгиевский), выдающийся церковный деятель и богослов
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
28 августа (9 сентября) 1893 г. — родился в Елизаветграде
1916 г. — окончил историко-филологический факультет Новороссийского университета
1920 г. — эмиграция в Болгарию, затем в Чехословакию
1923 г. — защитил магистерскую диссертацию «Историческая философия Герцена»
1926 г. — переехал в Париж
1931 г. — рукоположение в сан диакона
1932 г. — рукоположение в сан священника
1948 г. — начало работы деканом Свято-Владимирской духовной семинарии в США
1956–1964 гг. — профессор церковной истории в Гарвардском университете
1964 г. — выход на пенсию, работа приглашенным профессором в Принстонском университете
11 августа 1979 г. — скончался в Принстоне, США
28 августа (9 сентября) 1893 г. — родился в Елизаветграде
1916 г. — окончил историко-филологический факультет Новороссийского университета
1920 г. — эмиграция в Болгарию, затем в Чехословакию
1923 г. — защитил магистерскую диссертацию «Историческая философия Герцена»
1926 г. — переехал в Париж
1931 г. — рукоположение в сан диакона
1932 г. — рукоположение в сан священника
1948 г. — начало работы деканом Свято-Владимирской духовной семинарии в США
1956–1964 гг. — профессор церковной истории в Гарвардском университете
1964 г. — выход на пенсию, работа приглашенным профессором в Принстонском университете
11 августа 1979 г. — скончался в Принстоне, США
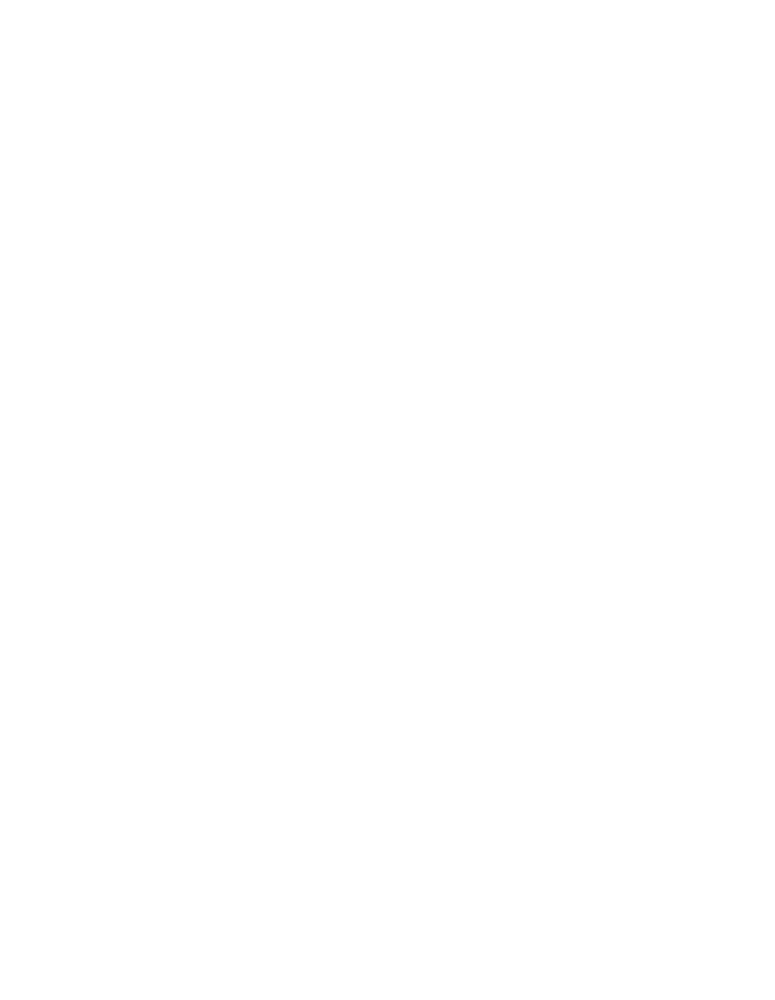
Г.В. Флоровский. 1940-е гг.
В ряду российских богословов не последнее место занимает Георгий Флоровский, чьими силами подготовлены и изданы фундаментальные труды по истории Русской церкви. Однако путь Г.В. Флоровского в богословие не был прям и прост.
Казалось, Георгию Васильевичу Флоровскому само происхождение готовило прочные связи с церковью. Он родился в семье священника, мать была дочерью настоятеля одесского Спасо-Преображенского кафедрального собора. Было бы вполне логично предположить, что четвертый, младший сын Георгий, окончивший гимназию с золотой медалью, получит духовное образование. Однако он решил иначе: поступил на историко-филологический факультет Императорского Новороссийского университета. Учился блестяще и был оставлен в университете для подготовки к магистерскому экзамену.
Но к 1920 году стало очевидно, что большевики победили в Гражданской войне. Флоровские вынуждены эмигрировать, сначала в Болгарию, затем в Чехословакию.
Казалось, Георгию Васильевичу Флоровскому само происхождение готовило прочные связи с церковью. Он родился в семье священника, мать была дочерью настоятеля одесского Спасо-Преображенского кафедрального собора. Было бы вполне логично предположить, что четвертый, младший сын Георгий, окончивший гимназию с золотой медалью, получит духовное образование. Однако он решил иначе: поступил на историко-филологический факультет Императорского Новороссийского университета. Учился блестяще и был оставлен в университете для подготовки к магистерскому экзамену.
Но к 1920 году стало очевидно, что большевики победили в Гражданской войне. Флоровские вынуждены эмигрировать, сначала в Болгарию, затем в Чехословакию.
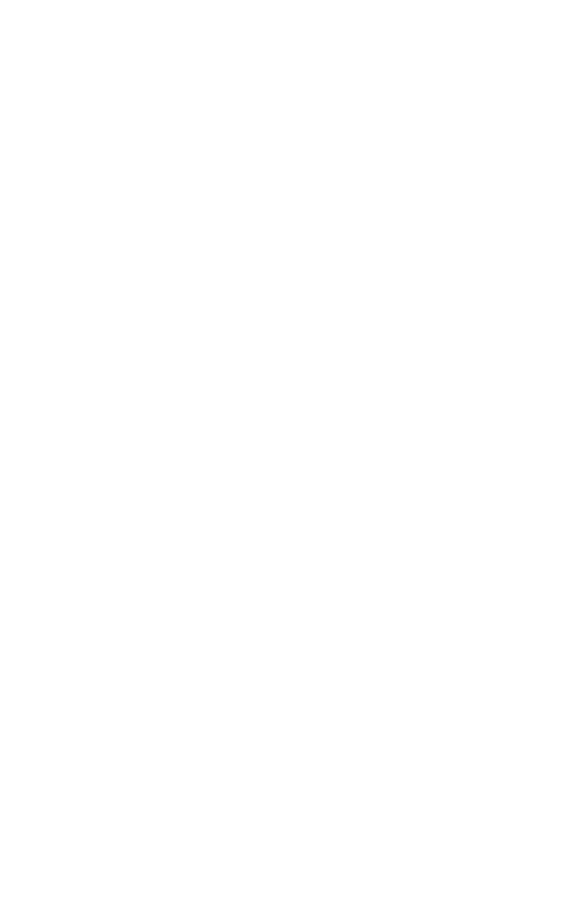
Г.В. Флоровский. Прага. 1923 г.
В 1920-е годы Прага превратилась едва ли не в центр русской культуры, объединивший лучших ее представителей. Появились высшие учебные заведения, в том числе Российский институт, открытый русскими эмигрантами. Молодой Флоровский начал читать в нем курс философии права. В 1923 году он защитил магистерскую диссертацию, выбрав довольно своеобразную тему по философии А.И. Герцена — основоположника народнической теории, бунтаря в прямом смысле этого слова. Что же привлекло Флоровского в Герцене? Революционные идеи? Нет. Герцен был интересен будущему богослову отношением к философии как мудрости жизни, позволяющей обоснованно действовать и ставить достойные жизненные цели. Молодого философа влекли не теоретические умозрения, а связь философии с жизнью, влияние теории на практику.
Некоторое время Флоровский примыкал к евразийцам. Он симпатизировал их утверждениям о «примате культуры над общественностью» и культурном творчестве как средстве человечества избежать тупика бездуховности. Большевизму нельзя противопоставлять лишь новое государственное устройство. Его следует побеждать силой творческого отношения людей к жизни и раскрепощением их потенциальных сил для созидательного преобразования мира. Практицизм должен быть подкреплен духовностью, нравственной чистотой, тягой человека к добру, взаимопониманию и взаимопомощи. Г.В. Флоровский остро дискутировал с П.Б. Струве, во многом абсолютизировавшим политику. Споры были вполне светскими, в духе типичных разногласий в среде эмигрантов по тем или иным вопросам.
Некоторое время Флоровский примыкал к евразийцам. Он симпатизировал их утверждениям о «примате культуры над общественностью» и культурном творчестве как средстве человечества избежать тупика бездуховности. Большевизму нельзя противопоставлять лишь новое государственное устройство. Его следует побеждать силой творческого отношения людей к жизни и раскрепощением их потенциальных сил для созидательного преобразования мира. Практицизм должен быть подкреплен духовностью, нравственной чистотой, тягой человека к добру, взаимопониманию и взаимопомощи. Г.В. Флоровский остро дискутировал с П.Б. Струве, во многом абсолютизировавшим политику. Споры были вполне светскими, в духе типичных разногласий в среде эмигрантов по тем или иным вопросам.
Видимо, острые дебаты, идеологические схватки, которыми была насыщена политическая жизнь эмиграции, пресытили Флоровского. К тому же он не видел в них главного — человека, ищущего свет истины и различающего особенности исторического пути России, во многом связанные с развитием общественно-политической мысли, составной частью которой являлось богословие.
Со временем Георгий Васильевич все больше тяготел к той атмосфере, которая его окружала дома в детстве. В 1926 году в Париже для русской православной молодежи был открыт православный Богословский институт, который нуждался в талантливых и перспективных преподавателях. Флоровский решил переехать в Париж. К этому времени он уже имел научное имя. Ряд его статей были благосклонно встречены интеллектуалами русского зарубежья. С 1926 по 1948 год Георгий Васильевич читал лекции студентам Богословского института. Именно в эти годы он работал над фундаментальным произведением — полной историей православного Предания, одним из замечательных томов которого стал труд «Пути русского богословия», вышедший в свет в 1937 году. «Эта книга, — писал Флоровский, — задумана как опыт исторического синтеза, как опыт истории русской мысли. Синтезу предшествуют годы анализа, многие годы медленного чтения и размышлений, еще с давних юношеских дней. И прошлая судьба русского богословия была для меня всегда историей, в которой нужно было найти себя… Историк никогда не должен забывать, что изучает он и описывает творческую трагедию человеческой жизни… Умственный отрыв от патристики и византинизма был, я уверен, главной причиной всех перебоев и духовных неудач в русском развитии».
Со временем Георгий Васильевич все больше тяготел к той атмосфере, которая его окружала дома в детстве. В 1926 году в Париже для русской православной молодежи был открыт православный Богословский институт, который нуждался в талантливых и перспективных преподавателях. Флоровский решил переехать в Париж. К этому времени он уже имел научное имя. Ряд его статей были благосклонно встречены интеллектуалами русского зарубежья. С 1926 по 1948 год Георгий Васильевич читал лекции студентам Богословского института. Именно в эти годы он работал над фундаментальным произведением — полной историей православного Предания, одним из замечательных томов которого стал труд «Пути русского богословия», вышедший в свет в 1937 году. «Эта книга, — писал Флоровский, — задумана как опыт исторического синтеза, как опыт истории русской мысли. Синтезу предшествуют годы анализа, многие годы медленного чтения и размышлений, еще с давних юношеских дней. И прошлая судьба русского богословия была для меня всегда историей, в которой нужно было найти себя… Историк никогда не должен забывать, что изучает он и описывает творческую трагедию человеческой жизни… Умственный отрыв от патристики и византинизма был, я уверен, главной причиной всех перебоев и духовных неудач в русском развитии».
«Под знаком долженствования будущее нам открывается вернее и глубже, чем под знаком ожиданий или предчувствий… Будущее есть не только нечто взыскуемое и чаемое, но и нечто творимое… Призвание вдохновляет нас именно ответственностью долга. И, неожиданным образом, именно в послушании есть творческая сила, есть рождающая мощь. Своеволие же есть начало расточающее…»
Г.В. Флоровский. «Пути русского богословия» (1937 г.)
Флоровский утверждал, что «падение Перуна» не означало полного торжества христианства над язычеством. Христианство, привнесенное на Русь извне, на первых порах стало верой преимущественно господствовавших слоев населения. Основная масса народа с трудом отказывалась от старой веры. Новое, особенно в духовной сфере, не могло внедриться по воле князя. Требовалось время, чтобы христианская культура стала всенародной. В первые десятилетия после крещения Руси в народной толще сплелись в тугой узел и языческая, и христианская религии. Флоровский отмечал, что «в сущности слагались две культуры: дневная и ночная». Днем крестьяне молились Христу, а ночью, как встарь, поклонялись Перуну. Причем языческая и христианская религии своеобразно дополняли друг друга. В язычестве главным было отношение человека к природе и обожествление ее сил. Язычество породило свою культуру, обогатившую человека чувством прекрасного, наполнившую его благодарностью за ее дары, то есть за средства к существованию. Недаром еще с языческих времен крестьяне поклонялись матушке-земле, кормилице, источнику сил физических и духовных. Христианство же «регулировало» отношения между людьми, неся им понятие добра и зла, милосердия, послушания, покаяния.
Флоровский уверен: постепенно языческие «переживания» крестьян сливались с Христовой верой. Так формировалась одна из устойчивых черт русского народа: не расставаться со святынями походя, по навязанной сверху воле, а следовать им, если нельзя или опасно явно, то продолжать служить тайно. Характерным становится духовное упорство, что впоследствии скажется на твердости национального характера в экстремальных условиях. В трудные годы Смуты народ стал главной силой, защитившей не только свое государство, но и свою духовную опору в жизни — православие.
Сплав языческой и христианской веры рождал своеобразный духовный мир русских людей, сочетавший аскетизм Востока с поэзией и мечтательностью языческих пращуров. Отсюда — противоречивость русских характеров, впитавших «византийскую сухость» и «славянскую мягкость». Эмоциональность, мечтательность, идеализм нередко превалировали над рассудочностью, трезвым взглядом на жизнь, рационализмом. Подобные качества народа были результатом его трудного и долгого пути к цельности духовной жизни. Георгий Васильевич подчеркивает, что византийская культура воспринималась не прямо и механически, а проходила сквозь «сито» славянского мира, переплавляясь в нем в самобытную культуру.
Значительную роль в распространении на Руси христианства сыграла древнейшая славянская азбука — кириллица, названная по имени своего создателя монаха Кирилла. Кирилл вместе с братом Мефодием были выдающимися просветителями и проповедниками христианства у славян. Древнейшие памятники письменности у восточных славян датируются X—XI веками. С помощью кириллицы на славянский язык были переведены основные греческие богослужебные книги. Русская церковь сразу заговорила на понятном прихожанам языке.
Сплав языческой и христианской веры рождал своеобразный духовный мир русских людей, сочетавший аскетизм Востока с поэзией и мечтательностью языческих пращуров. Отсюда — противоречивость русских характеров, впитавших «византийскую сухость» и «славянскую мягкость». Эмоциональность, мечтательность, идеализм нередко превалировали над рассудочностью, трезвым взглядом на жизнь, рационализмом. Подобные качества народа были результатом его трудного и долгого пути к цельности духовной жизни. Георгий Васильевич подчеркивает, что византийская культура воспринималась не прямо и механически, а проходила сквозь «сито» славянского мира, переплавляясь в нем в самобытную культуру.
Значительную роль в распространении на Руси христианства сыграла древнейшая славянская азбука — кириллица, названная по имени своего создателя монаха Кирилла. Кирилл вместе с братом Мефодием были выдающимися просветителями и проповедниками христианства у славян. Древнейшие памятники письменности у восточных славян датируются X—XI веками. С помощью кириллицы на славянский язык были переведены основные греческие богослужебные книги. Русская церковь сразу заговорила на понятном прихожанам языке.
Флоровский считает, что «непосредственное духовно-культурное сотрудничество с Византией и с греческой стихией было уже вторичным». Однако это не был отрыв от классического греко-византийского наследия. Своеобразным было его освоение. В Древней Руси появляется литература, свидетельствующая о том, что Русь никогда не жила замкнуто, а имела разветвленные связи с другими странами, в том числе в духовной области. Г.Флоровский отмечает, что на древнерусскую литературу наложили свой отпечаток византийская и греческая традиции. Русские священники и монахи были хорошо знакомы со святоотеческими сочинениями палестинских подвижников. Иными словами, Русь не была отторгнута от «классики». Широкие связи Руси с неславянским миром закладывали одну из прочных традиций русской, а впоследствии российской культуры — открытость другим культурам, их творческую переработку, движение вперед в познании мира с опорой не только на собственные знания и представления, но и на достижения далеких и близких соседей. Причем Русь не копировала иностранную культуру, а прилагала усилия по ее глубокому усвоению и творческому преобразованию в культуру, отвечающую потребностям собственного, самобытного духовно-культурного развития.
Примером может служить сочинение митрополита Киевского Илариона «Слово о законе, Моисеем данном, и о благодати и истине…», или «Слово о законе и благодати». Первый русский митрополит сравнивает иудаизм (Закон, данный Богом пророку Моисею на горе Синай) и христианство (Благодать, ниспосланная всем народам, а не одному иудейскому), доказывая преимущества Благодати перед Законом. Однако он поясняет, что не будет пересказывать то, что написано в других произведениях: «Напоминать в настоящем писании и пророческую проповедь о Христе, и апостольское учение о будущем веке излишне было бы и похоже на тщеславие. Ведь излагать здесь то, что в иных книгах написано и вам ведомо, стало бы признаком дерзости и славолюбия. Ибо не несведущим пишем, но с преизбытком насытившимся книжной сладости…» Это обращение к церковной элите, к тем, кто обязан читать книги Священного Писания и доносить их содержание до новообращенных христиан.
Примером может служить сочинение митрополита Киевского Илариона «Слово о законе, Моисеем данном, и о благодати и истине…», или «Слово о законе и благодати». Первый русский митрополит сравнивает иудаизм (Закон, данный Богом пророку Моисею на горе Синай) и христианство (Благодать, ниспосланная всем народам, а не одному иудейскому), доказывая преимущества Благодати перед Законом. Однако он поясняет, что не будет пересказывать то, что написано в других произведениях: «Напоминать в настоящем писании и пророческую проповедь о Христе, и апостольское учение о будущем веке излишне было бы и похоже на тщеславие. Ведь излагать здесь то, что в иных книгах написано и вам ведомо, стало бы признаком дерзости и славолюбия. Ибо не несведущим пишем, но с преизбытком насытившимся книжной сладости…» Это обращение к церковной элите, к тем, кто обязан читать книги Священного Писания и доносить их содержание до новообращенных христиан.
«Русская душа осаждена неверием во имя мнимой мудрости. И снять эту осаду мы сможем только тогда, когда возмужаем в мудрости истинной и, с помощью Божьей, сумеем показать все богатство сокровенной премудрости Христовой, просвещающей и озаряющей весь состав человеческий. Бог владеет только смелыми, дерзающими во имя Его, с надеждой на вышнее выступление. Испытание сомнением и неверием разрешится только в творческом исповедании истины и правды».
Г.В. Флоровский. «Оправдание знания» (1928 г.)
«Слово о законе и благодати», написанное между 1037–1050 годами, — выдающееся произведение литературы Киевской Руси. Автору удалось создать необычайно эмоциональную проповедь, привлекая разнообразные приемы ораторского красноречия: сравнения, метафоры, антитезы, восклицания и риторические вопросы.
Художественные достоинства «Слова» получили дальнейшее развитие в самых разных жанрах древнерусской литературы. В частности, в «Поучении» Владимира Мономаха. Князь киевский Владимир Мономах, много сделавший для укрепления земли Русской, перед смертью написал своеобразное завещание. Адресованное сыновьям, оно вышло за рамки семейного круга, получив огромный общественный резонанс и литературное признание.
Художественные достоинства «Слова» получили дальнейшее развитие в самых разных жанрах древнерусской литературы. В частности, в «Поучении» Владимира Мономаха. Князь киевский Владимир Мономах, много сделавший для укрепления земли Русской, перед смертью написал своеобразное завещание. Адресованное сыновьям, оно вышло за рамки семейного круга, получив огромный общественный резонанс и литературное признание.
Апогеем патриотизма древнерусской литературы стало знаменитое «Слово о полку Игореве», проникнутое болью за неудачный поход Игоря. Поражение русских войск явилось следствием княжеских распрей, раздробленности государства: «Ярослава все внуки и Всеслава! Уже склоните стяги свои, вложите в ножны мечи свои поврежденные, ибо лишились вы славы дедов. Своими крамолами начали вы наводить поганых на землю Русскую, на достояние Всеслава. Из-за усобиц ведь пошло насилие от земли Половецкой!» Автор «Слова» обращается ко всем русским князьям с призывом объединиться в борьбе «за землю Русскую, за раны Игоревы».
Мотивы древнерусской литературы не канули в Лету. Через века они ярко проявились в произведениях русской классической литературы, проникнутой духом высокой гражданственности, миролюбия и милосердия.
Флоровский пишет о том, что русскую культуру не сломило монгольское нашествие. Разрыва эпох не произошло. Напротив, культура развивается, охватывает новые территории, в частности северо-восток, защищенный от постоянных набегов кочевников лесами и болотами. Флоровский отмечает: «Во всяком случае, в истории русской культуры и письменности XIII век не был временем упадка и оскудения… Именно к XIII веку относится ряд значительных идейно-культурных начинаний». В литературе остались живые «сердечные чувства», вдохновение, искренние переживания. Даже в период падения Константинополя Русь избежала опасности подменить «вселенское церковно-историческое предание местным» и замкнуться в национальном. На смену ослабевшим связям с Византией приходили все более расширяющиеся контакты с Западом. По образному выражению
Н.М. Карамзина, московский государь Иван III «разодрал завесу между Европой и нами».
Рассуждения Флоровского очень интересны. Во-первых, они помогают понять особенности становления христианства на Руси, а во-вторых, помогают извлечь из исторических событий важные уроки. Один из них — Россию поднимало единство духа и государственности. В этой неразрывной связи духа и силы — ключ к многим «загадкам» судьбы России.
Мотивы древнерусской литературы не канули в Лету. Через века они ярко проявились в произведениях русской классической литературы, проникнутой духом высокой гражданственности, миролюбия и милосердия.
Флоровский пишет о том, что русскую культуру не сломило монгольское нашествие. Разрыва эпох не произошло. Напротив, культура развивается, охватывает новые территории, в частности северо-восток, защищенный от постоянных набегов кочевников лесами и болотами. Флоровский отмечает: «Во всяком случае, в истории русской культуры и письменности XIII век не был временем упадка и оскудения… Именно к XIII веку относится ряд значительных идейно-культурных начинаний». В литературе остались живые «сердечные чувства», вдохновение, искренние переживания. Даже в период падения Константинополя Русь избежала опасности подменить «вселенское церковно-историческое предание местным» и замкнуться в национальном. На смену ослабевшим связям с Византией приходили все более расширяющиеся контакты с Западом. По образному выражению
Н.М. Карамзина, московский государь Иван III «разодрал завесу между Европой и нами».
Рассуждения Флоровского очень интересны. Во-первых, они помогают понять особенности становления христианства на Руси, а во-вторых, помогают извлечь из исторических событий важные уроки. Один из них — Россию поднимало единство духа и государственности. В этой неразрывной связи духа и силы — ключ к многим «загадкам» судьбы России.
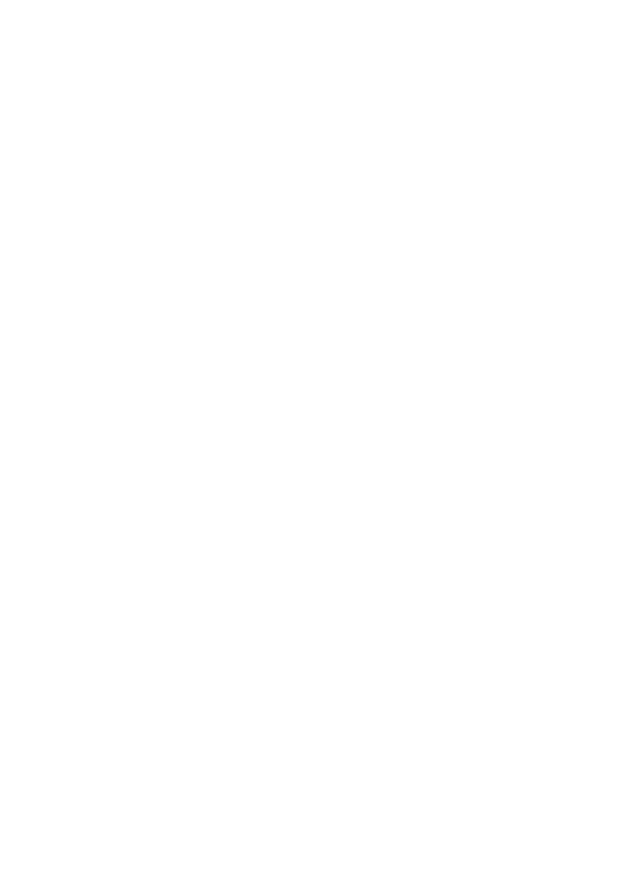
Величавый Нью-Йорк
В сентябре 1948 года Г.В. Флоровский получил от митрополита Американского Феофила (Пашковского) приглашение, воспользовавшись которым, переехал в Нью-Йорк, где стал профессором, а позднее деканом Свято-Владимирской духовной семинарии