Минфин Белого движения
Михаил Владимирович Бернацкий
(1876–1943)
(1876–1943)
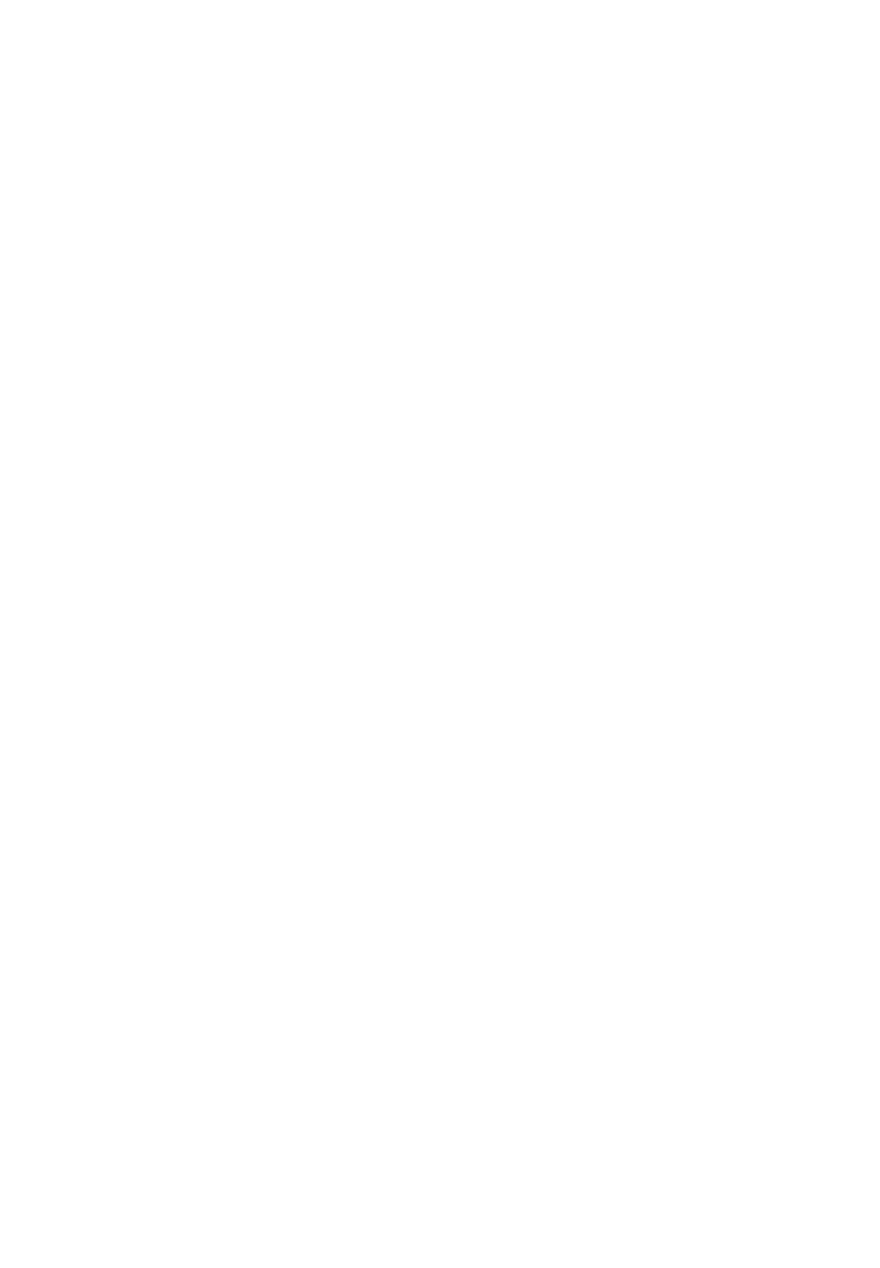
Бернацкий и Деникин
«Денег у нас нет, Антон Иванович, но мы держимся...»
«Денег у нас нет, Антон Иванович, но мы держимся...»
Крым. Март 1920 г.
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
6 (18) октября 1876 г. — родился в Киеве
1911 г. — защита магистерской диссертации «Теоретики государственного социализма в Германии и социально-политические воззрения князя Бисмарка»
Март — октябрь 1917 г. — работа в структурах Временного правительства, министр финансов
1919–1920 гг. — управляющий отделом финансов Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России А.И. Деникине и начальник управления финансов в Правительстве Юга России П.Н. Врангеля
1921–1943 гг. — преподавание на русском отделении юридического факультета Парижского университета и в Институте славяноведения
16 июля 1943 г. — скончался в Париже
6 (18) октября 1876 г. — родился в Киеве
1911 г. — защита магистерской диссертации «Теоретики государственного социализма в Германии и социально-политические воззрения князя Бисмарка»
Март — октябрь 1917 г. — работа в структурах Временного правительства, министр финансов
1919–1920 гг. — управляющий отделом финансов Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России А.И. Деникине и начальник управления финансов в Правительстве Юга России П.Н. Врангеля
1921–1943 гг. — преподавание на русском отделении юридического факультета Парижского университета и в Институте славяноведения
16 июля 1943 г. — скончался в Париже
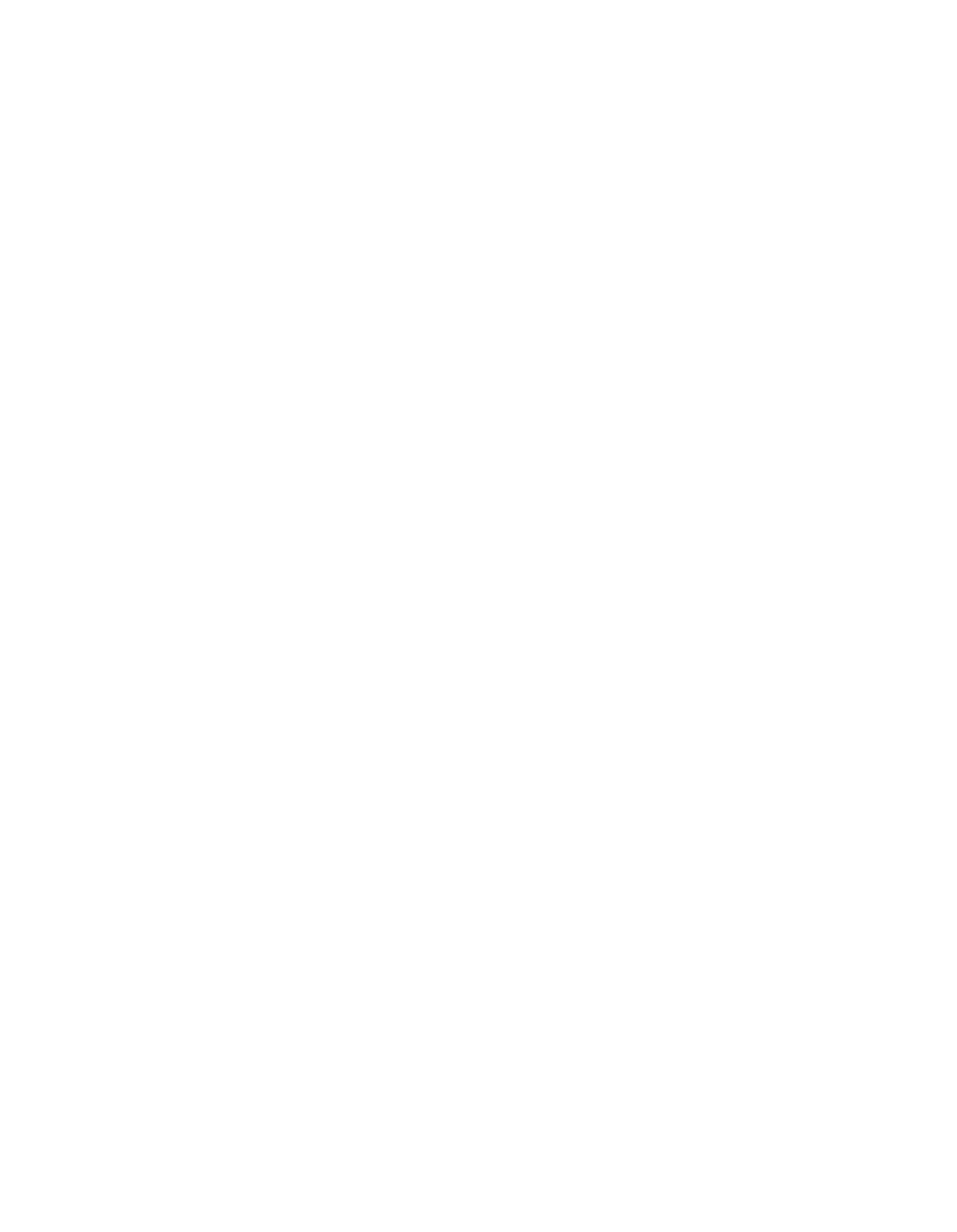
М.В. Бернацкий. 1920-е гг.
Середина февраля 1919 года. Идет Гражданская война. В Ялте проходит совещание представителей торговли и промышленности. В разгар дебатов предприниматели выслушивают представителя власти — начальника управления финансов Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России Михаила Бернацкого. Доклад его недолгий, но с первых же слов он поражает присутствовавших своим пессимизмом. «Финансовые основы существования Добровольческой армии эфемерны», — говорит докладчик. «Ее обыкновенные доходы настолько ничтожны, что их не хватает даже для удовлетворения минимальных потребностей гражданского правопорядка», — продолжает он. И это говорит министр финансов? Ведь он должен убеждать бизнес в стабильности белой власти. Но вскоре становится ясно: правдивая информация, хотя и очень неприглядная, лучше цветистой риторики.
Мало кто из российских экономистов испытывал на себе большие превратности судьбы, чем Бернацкий. Убежденный марксист и материалист в начале ХХ века, с течением времени он оказался в стане «заклятых врагов советской власти».
Михаил Владимирович Бернацкий родился 6 (18) октября 1876 года в Киеве. Успешно окончил гимназию и юридический факультет Киевского университета им. Св. Владимира. Он собирался и дальше заниматься наукой, был оставлен при кафедре политической экономии, затем в 1899 году поощрен заграничной командировкой. Бернацкий увлекся марксистскими идеями, интенсивно сотрудничал с «легальными марксистами», публиковал статьи в левых журналах «Образование» и «Современный мир». И вполне объяснимо, что накануне Первой русской революции, читая лекции в Петербургском политехническом институте, в «народном» Тенишевском училище, молодой ученый доказывал слушателям важность революционных преобразований и политических перемен. Названия его статей, увидевших свет в 1902–1910 годах, говорят сами за себя: «К аграрному вопросу»,
«К характеристике современного студенчества», «Английские рабочие союзы (тред-юнионы)», «К вопросу о таможенном покровительстве сельской промышленности в современных государствах», «Очерки по истории социализма».
В то же время он не оставлял научной деятельности, активно изучал финансовые вопросы. Им были опубликованы такие работы, как «Лекции по денежному обращению», «Русский государственный банк, как учреждение эмиссионное», «О выпуске Государственным казначейством мелких денежных знаков» и другие.
Мало кто из российских экономистов испытывал на себе большие превратности судьбы, чем Бернацкий. Убежденный марксист и материалист в начале ХХ века, с течением времени он оказался в стане «заклятых врагов советской власти».
Михаил Владимирович Бернацкий родился 6 (18) октября 1876 года в Киеве. Успешно окончил гимназию и юридический факультет Киевского университета им. Св. Владимира. Он собирался и дальше заниматься наукой, был оставлен при кафедре политической экономии, затем в 1899 году поощрен заграничной командировкой. Бернацкий увлекся марксистскими идеями, интенсивно сотрудничал с «легальными марксистами», публиковал статьи в левых журналах «Образование» и «Современный мир». И вполне объяснимо, что накануне Первой русской революции, читая лекции в Петербургском политехническом институте, в «народном» Тенишевском училище, молодой ученый доказывал слушателям важность революционных преобразований и политических перемен. Названия его статей, увидевших свет в 1902–1910 годах, говорят сами за себя: «К аграрному вопросу»,
«К характеристике современного студенчества», «Английские рабочие союзы (тред-юнионы)», «К вопросу о таможенном покровительстве сельской промышленности в современных государствах», «Очерки по истории социализма».
В то же время он не оставлял научной деятельности, активно изучал финансовые вопросы. Им были опубликованы такие работы, как «Лекции по денежному обращению», «Русский государственный банк, как учреждение эмиссионное», «О выпуске Государственным казначейством мелких денежных знаков» и другие.
«…Добровольческая армия никакой валютой не располагает. Считая себя преемственной властью по отношению к царскому правительству и Временному правительству, Добровольческая армия полагала, что она может рассчитывать на исполнение тех обещаний и обязательств, которые были даны союзниками по отношению к старой власти…»
М.В. Бернацкий. Из доклада на совещании представителей торговли и промышленности
в Ялте. 18 февраля 1918 г.
Активное участие государства в экономике представлялось Михаилу Владимировичу не только необходимым условием промышленного и финансового роста, но и фактором, позволявшим избежать социальных конфликтов. Государство должно выполнять свои социальные функции, о чем, по мнению Бернацкого, свидетельствовал опыт Германии. В 1911 году он защитил магистерскую диссертацию с характерным названием «Теоретики государственного социализма в Германии и социально-политические воззрения князя Бисмарка». Являясь противником теории «особого пути» России, на чем настаивали народники, он считал, что русское общинное крестьянское хозяйство аналогично сельским общинам в голландской Индонезии.
В этот период Бернацкий постепенно избавляется от марксистских догм и приходит к выводу, что не социализм и коммунизм, а социальный капитализм способен обеспечить личную свободу и благоденствие людей (видимо, сказались его усидчивые занятия политической экономией). Изменение политических взглядов приводит Бернацкого в партию кадетов.
Во время Первой мировой войны он активно работает в общественных структурах, в Петроградской городской думе, а также в Отделе внешней торговли Центрального военно-промышленного комитета. Но вершина его карьеры была впереди.
Февраль 1917 года изменил не только жизнь страны, но и судьбу героя этого очерка. Казалось бы, его идеи о «социальном государстве» были как никогда близки к осуществлению. Михаил Владимирович последовательно занимал должности управляющего отделом труда, товарища министра Министерства торговли и промышленности, председателя Совещания по обсуждению проекта закона о свободе стачек и забастовок, а с конца июля 1917-го стал управляющим министерством финансов (утвержден в должности министра 25 сентября 1917 года). Однако надежды на «экономический рост» очень скоро столкнулись с нестабильным политическим положением.
В докладе 24 июля 1917 года Бернацкий признавал важность государственного регулирования, говорил, что оно «необходимо» и даже «должно быть углублено и сохранено после войны». Но при этом он считал, что задача «текущего момента» — добиться союза государственной власти и представителей промышленности и коммерции. Вывод доклада звучал как приговор самому себе, бывшему «молодому марксисту»: «В будущем придется иметь дело с хозяйством капиталистическим, хотя и урегулированным, а не социалистическим».
Катастрофические события увлекли его в водоворот Русской смуты. После ареста в Зимнем дворце, пребывания в каземате Петропавловской крепости, после разгона Учредительного собрания и заключения Брестского мира Бернацкий выехал сначала в родной Киев, а затем в Одессу и на Кубань, где собирались силы Белого движения.
Во время Первой мировой войны он активно работает в общественных структурах, в Петроградской городской думе, а также в Отделе внешней торговли Центрального военно-промышленного комитета. Но вершина его карьеры была впереди.
Февраль 1917 года изменил не только жизнь страны, но и судьбу героя этого очерка. Казалось бы, его идеи о «социальном государстве» были как никогда близки к осуществлению. Михаил Владимирович последовательно занимал должности управляющего отделом труда, товарища министра Министерства торговли и промышленности, председателя Совещания по обсуждению проекта закона о свободе стачек и забастовок, а с конца июля 1917-го стал управляющим министерством финансов (утвержден в должности министра 25 сентября 1917 года). Однако надежды на «экономический рост» очень скоро столкнулись с нестабильным политическим положением.
В докладе 24 июля 1917 года Бернацкий признавал важность государственного регулирования, говорил, что оно «необходимо» и даже «должно быть углублено и сохранено после войны». Но при этом он считал, что задача «текущего момента» — добиться союза государственной власти и представителей промышленности и коммерции. Вывод доклада звучал как приговор самому себе, бывшему «молодому марксисту»: «В будущем придется иметь дело с хозяйством капиталистическим, хотя и урегулированным, а не социалистическим».
Катастрофические события увлекли его в водоворот Русской смуты. После ареста в Зимнем дворце, пребывания в каземате Петропавловской крепости, после разгона Учредительного собрания и заключения Брестского мира Бернацкий выехал сначала в родной Киев, а затем в Одессу и на Кубань, где собирались силы Белого движения.
«…На Юге России совершается крупная работа по восстановлению государственных финансов… Разрабатывается план коренной денежной реформы, которая будет осуществлена после фактического объединения фонтов генерала Деникина и адмирала Колчака…»
М.В. Бернацкий. Из интервью пресс-бюро Отдела пропаганды Особого совещания.
2 ноября 1919 г.
На белом Юге Бернацкий — бессменный глава финансов Белого движения. В 1919–1920 годах
он состоял в должностях управляющего отделом финансов Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР генерал-лейтенанте А.И. Деникине и начальника управления финансов в Правительстве Юга России генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля.
Именно тогда прозвучали его беспокойные слова на совещании в Ялте. Бернацкий не уставал напоминать о «существующем денежном безобразии с разнокалиберными деньгами». Он говорил о неизбежной, хотя и временной, инфляции:
«…Я всегда был противником чрезвычайного выпуска бумажных денег, но в настоящее время другого выхода нет. Единственным фундаментом этого выпуска может служить сейчас потребность самого населения в этих денежных знаках и предъявляемый им спрос на них. Я вполне считаю, что начинать с этими денежными знаками коренной реформы нашего денежного обращения нельзя. Эти знаки сами — кандидаты на будущую девальвацию…»
он состоял в должностях управляющего отделом финансов Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР генерал-лейтенанте А.И. Деникине и начальника управления финансов в Правительстве Юга России генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля.
Именно тогда прозвучали его беспокойные слова на совещании в Ялте. Бернацкий не уставал напоминать о «существующем денежном безобразии с разнокалиберными деньгами». Он говорил о неизбежной, хотя и временной, инфляции:
«…Я всегда был противником чрезвычайного выпуска бумажных денег, но в настоящее время другого выхода нет. Единственным фундаментом этого выпуска может служить сейчас потребность самого населения в этих денежных знаках и предъявляемый им спрос на них. Я вполне считаю, что начинать с этими денежными знаками коренной реформы нашего денежного обращения нельзя. Эти знаки сами — кандидаты на будущую девальвацию…»
Не скрывал минфин и сложного положения с валютой. Казалось бы, можно рассчитывать на британские и французские кредиты, выданные еще императорскому правительству (речь шла о многомиллионных суммах). Вполне возможным представлялось получение золотого депозита от Российского правительства адмирала А.В. Колчака. Но произошло это уже летом — осенью 1919 года.
В октябре 1919-го, во время успешного продвижения белых армий к Москве и Петрограду, Бернацкий вновь выступил с публичным интервью. Перепечатанные почти во всех южнорусских официозах, его заявления выглядели гораздо более оптимистичными. Единство кассы и бюджета было почти достигнуто. Управление Государственным банком было восстановлено, началась эмиссия собственных добровольческих денег с патриотической символикой: на 1000-рублевых купюрах-«колокольчиках» присутствовали лозунги о «Единой, Неделимой России», двуглавые орлы, георгиевские ленты и Царь-колокол (в ожидании вступления в Москву).
В октябре 1919-го, во время успешного продвижения белых армий к Москве и Петрограду, Бернацкий вновь выступил с публичным интервью. Перепечатанные почти во всех южнорусских официозах, его заявления выглядели гораздо более оптимистичными. Единство кассы и бюджета было почти достигнуто. Управление Государственным банком было восстановлено, началась эмиссия собственных добровольческих денег с патриотической символикой: на 1000-рублевых купюрах-«колокольчиках» присутствовали лозунги о «Единой, Неделимой России», двуглавые орлы, георгиевские ленты и Царь-колокол (в ожидании вступления в Москву).
«Экономические силы должны иметь нестесненное в основных своих проявлениях движение: в таком случае происходит процесс накопления капиталов, их свободное выявление и приложение в различных отраслях хозяйства, а вместе с этим — рост здорового товарооборота, воспринимающего и укрепляющего денежную систему. Лишь в атмосфере этого свободного экономического духа денежное обращение не есть сумма ценных знаков различных наименований, а эластичный механизм, тесно связанный с народной экономикой».
М.В. Бернацкий. Из статьи «Денежная реформа
в Советской России» (1925 г.)
Но надежды не оправдались. «Поход на Москву» завершился не у стен Кремля, а на Дону и Кубани, куда, впереди отступающих войск, выехало Особое совещание. В начале 1920 года в Новороссийске аппарат деникинского правительства был ликвидирован. Однако честный профессионал, уважаемый многими военными и политиками, Бернацкий не остался без дела. Именно на него возложил Деникин обязанность возглавления по существу формального, последнего состава своего правительства. В середине марта 1920 года в Феодосии А.И. Деникин создал так называемый деловой кабинет, или кабинет Бернацкого, ведающий делами общегосударственными по упрощенной схеме управления.
Правда, просуществовать этому кабинету удалось недолго. Сменивший Деникина на посту главкома ВСЮР П.Н. Врангель сформировал новое правительство. Бернацкому и там нашлось место, все в том же кресле минфина. Он разработал новый бюджет, по которому из 20 млрд рублей, поступавших казне от налогов, 18 млрд приходилось на долю косвенного обложения. Он вел переговоры в Париже о предоставлении врангелевскому правительству внешнего займа. Но новый главком доверял ему меньше, чем Деникин, считал его «исключительно теоретиком» и намеревался заменить Бернацкого кем-либо из «старых чиновников», людей «дела и практики». Но русский исход из Таврии в ноябре 1920 года поставил крест и на планах по реформированию финансов Белого движения, и на чиновничьей карьере Бернацкого…
Правда, просуществовать этому кабинету удалось недолго. Сменивший Деникина на посту главкома ВСЮР П.Н. Врангель сформировал новое правительство. Бернацкому и там нашлось место, все в том же кресле минфина. Он разработал новый бюджет, по которому из 20 млрд рублей, поступавших казне от налогов, 18 млрд приходилось на долю косвенного обложения. Он вел переговоры в Париже о предоставлении врангелевскому правительству внешнего займа. Но новый главком доверял ему меньше, чем Деникин, считал его «исключительно теоретиком» и намеревался заменить Бернацкого кем-либо из «старых чиновников», людей «дела и практики». Но русский исход из Таврии в ноябре 1920 года поставил крест и на планах по реформированию финансов Белого движения, и на чиновничьей карьере Бернацкого…
Наступил период эмиграции. Здесь Михаил Владимирович в полной мере проявил себя как ученый-экономист. После долгих беженских мытарств ему удалось найти работу в русском отделении юридического факультета Парижского университета. Чиновник снова стал профессором. Появилась возможность со стороны оценить проблемы финансового положения Европы и России. Помимо юрфака, он также вел занятия на экономическом семинаре в Институте славяноведения, возглавлял Русскую академическую группу в Париже, работал в редколлегии журнала «Право и хозяйство» и газеты «Возрождение». Начиная с 1922 года вышло несколько фундаментальных монографий Михаила Владимировича, он опубликовал много статей в эмигрантской и иностранной прессе на французском, английском, немецком языках. Вот некоторые из названий: «Сравнительный анализ финансовых систем СССР и России», «Российские финансы в период войны», «Экономическая жертва России союзному делу», «Денежная реформа в Советской России».
К большому сожалению, эти работы практически неизвестны современному российскому читателю. До сих пор не переиздана ни одна монография Бернацкого, не вышел в свет сборник его избранных статей. А ведь многие его оценки весьма интересны и поучительны сегодня…
Например, вот как Михаил Владимирович оценивал советскую финансовую систему периода нэпа. Последний, по его мнению, «обнаруживает не здоровый процесс возрождения живых экономических сил, поддерживаемых и направляемых целесообразной государственной политикой, а зачастую непосильную борьбу “народной экономики” с паразитирующей на ее теле “советской”». Оптимальным вариантом финансового развития можно было бы считать рациональное сочетание государственного управления и свободного предпринимательства. В какой-то степени нашего соотечественника можно назвать предшественником «кейнсианской модели» экономической и финансовой политики, востребованной в период мирового кризиса и Великой депрессии.
Помимо научной и публицистической деятельности, в эмиграции Бернацкий занимался устройством эвакуированных чинов белой армии и беженцев. Он был также председателем финансового совета при Совете послов в Париже, в распоряжении которого находились заграничные денежные фонды русского правительства. Современники свидетельствовали, что, распоряжаясь достаточно крупными суммами, Бернацкий вел скромный образ жизни.
Михаил Владимирович скончался 16 июля 1943 года в оккупированном немцами Париже. Он был похоронен на парижском кладбище Баньё рядом со своей женой.
К большому сожалению, эти работы практически неизвестны современному российскому читателю. До сих пор не переиздана ни одна монография Бернацкого, не вышел в свет сборник его избранных статей. А ведь многие его оценки весьма интересны и поучительны сегодня…
Например, вот как Михаил Владимирович оценивал советскую финансовую систему периода нэпа. Последний, по его мнению, «обнаруживает не здоровый процесс возрождения живых экономических сил, поддерживаемых и направляемых целесообразной государственной политикой, а зачастую непосильную борьбу “народной экономики” с паразитирующей на ее теле “советской”». Оптимальным вариантом финансового развития можно было бы считать рациональное сочетание государственного управления и свободного предпринимательства. В какой-то степени нашего соотечественника можно назвать предшественником «кейнсианской модели» экономической и финансовой политики, востребованной в период мирового кризиса и Великой депрессии.
Помимо научной и публицистической деятельности, в эмиграции Бернацкий занимался устройством эвакуированных чинов белой армии и беженцев. Он был также председателем финансового совета при Совете послов в Париже, в распоряжении которого находились заграничные денежные фонды русского правительства. Современники свидетельствовали, что, распоряжаясь достаточно крупными суммами, Бернацкий вел скромный образ жизни.
Михаил Владимирович скончался 16 июля 1943 года в оккупированном немцами Париже. Он был похоронен на парижском кладбище Баньё рядом со своей женой.
Василий Цветков
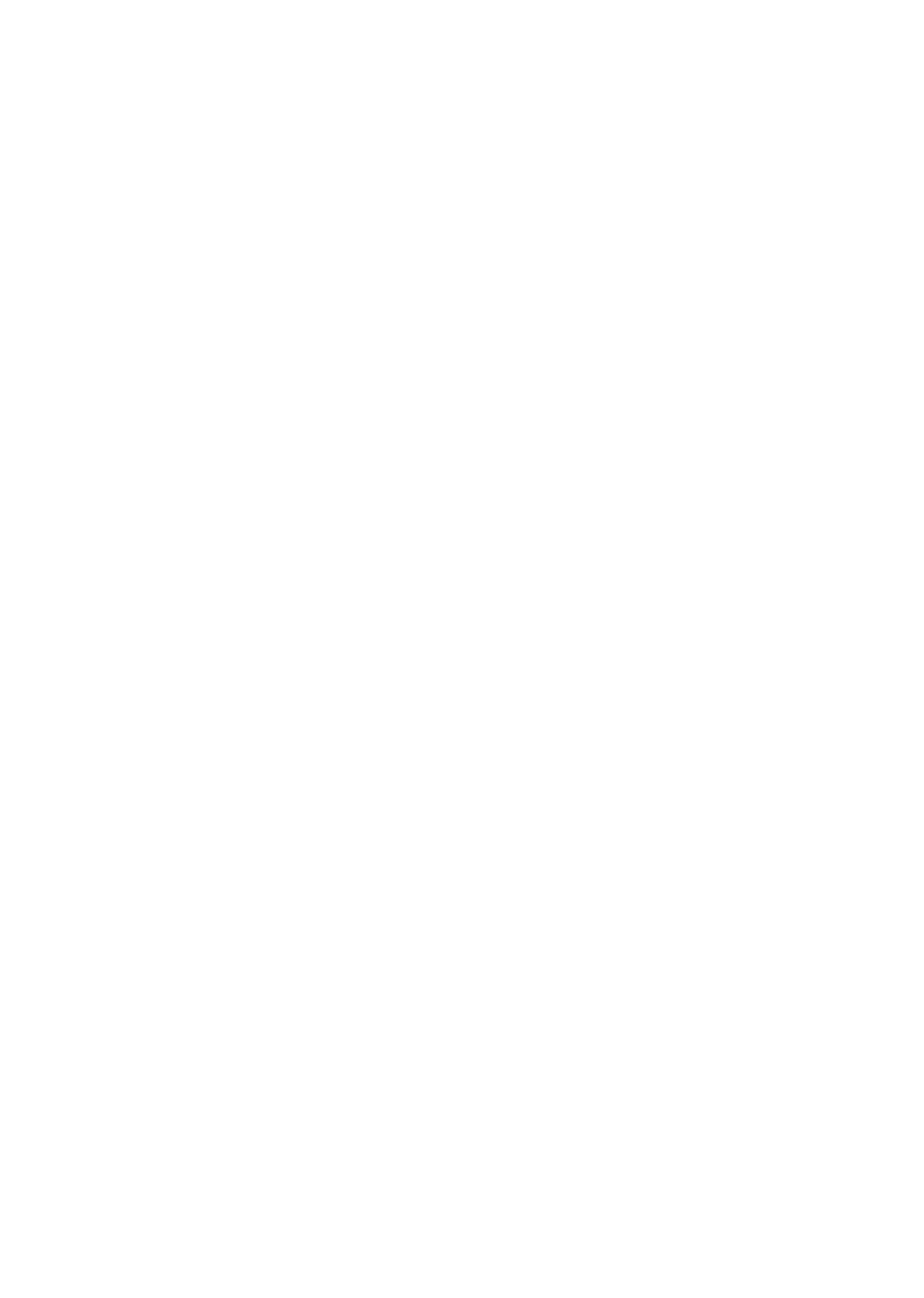
Париж, Париж…
Приехав в столицу Франции, бывший министр стал профессором. На этом поприще за годы жизни в эмиграции он преуспел гораздо больше...