Свидетель иной жизни
Архиепископ Иоанн
(Дмитрий Алексеевич Шаховской)
(1902–1989)
(Дмитрий Алексеевич Шаховской)
(1902–1989)
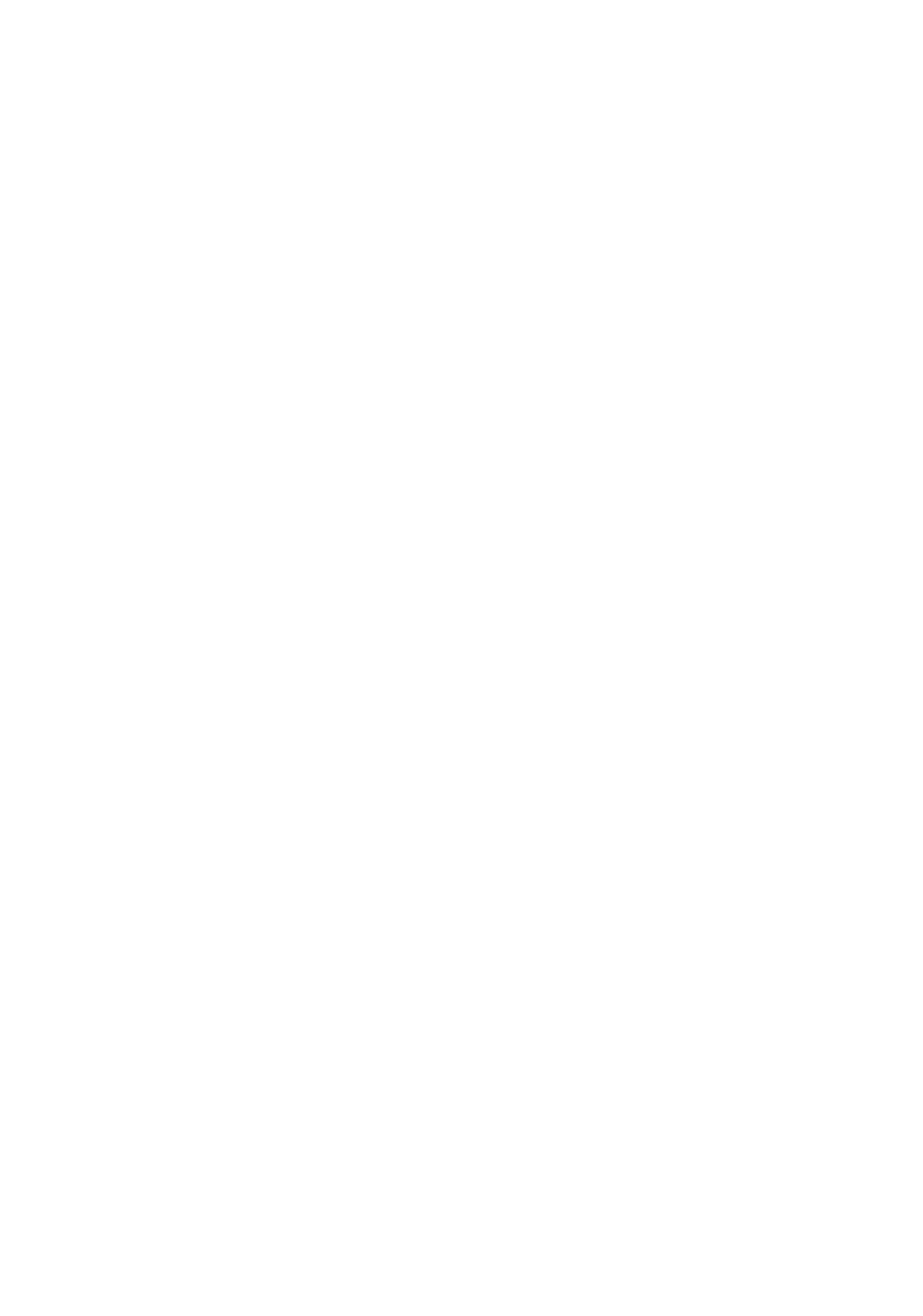
Стремление к свету
В США перед владыкой Иоанном открылись новые возможности для православного пастырства и миссионерства. Главное его духовное дело стало связано с радио. С 1948 года на протяжении 40 лет он вел радиопередачу «Беседы с русским народом»
В США перед владыкой Иоанном открылись новые возможности для православного пастырства и миссионерства. Главное его духовное дело стало связано с радио. С 1948 года на протяжении 40 лет он вел радиопередачу «Беседы с русским народом»
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
23 августа (5 сентября) 1902 г. — родился в Москве
1915 г. — начал учиться в Императорском Царскосельском лицее (Петербург)
Лето 1920 г. — эмигрировал на пароходе «Цесаревич Георгий» в Константинополь, обосновался в Париже, затем в Брюсселе
5 сентября 1926 г. — принял монашеский постриг
6 марта 1927 г. — рукоположен в иеромонахи в г. Бела-Црква (Югославия)
1932 г. — стал настоятелем Свято-Владимирского храма в Берлине
1937 г. — возведен в сан архимандрита
1946 г. — прибыл в США и поселился в Сан-Франциско
1961 г. — возведен в сан архиепископа Сан-Францисского
30 мая 1989 г. — скончался в Санта-Барбаре (Калифорния)
23 августа (5 сентября) 1902 г. — родился в Москве
1915 г. — начал учиться в Императорском Царскосельском лицее (Петербург)
Лето 1920 г. — эмигрировал на пароходе «Цесаревич Георгий» в Константинополь, обосновался в Париже, затем в Брюсселе
5 сентября 1926 г. — принял монашеский постриг
6 марта 1927 г. — рукоположен в иеромонахи в г. Бела-Црква (Югославия)
1932 г. — стал настоятелем Свято-Владимирского храма в Берлине
1937 г. — возведен в сан архимандрита
1946 г. — прибыл в США и поселился в Сан-Франциско
1961 г. — возведен в сан архиепископа Сан-Францисского
30 мая 1989 г. — скончался в Санта-Барбаре (Калифорния)
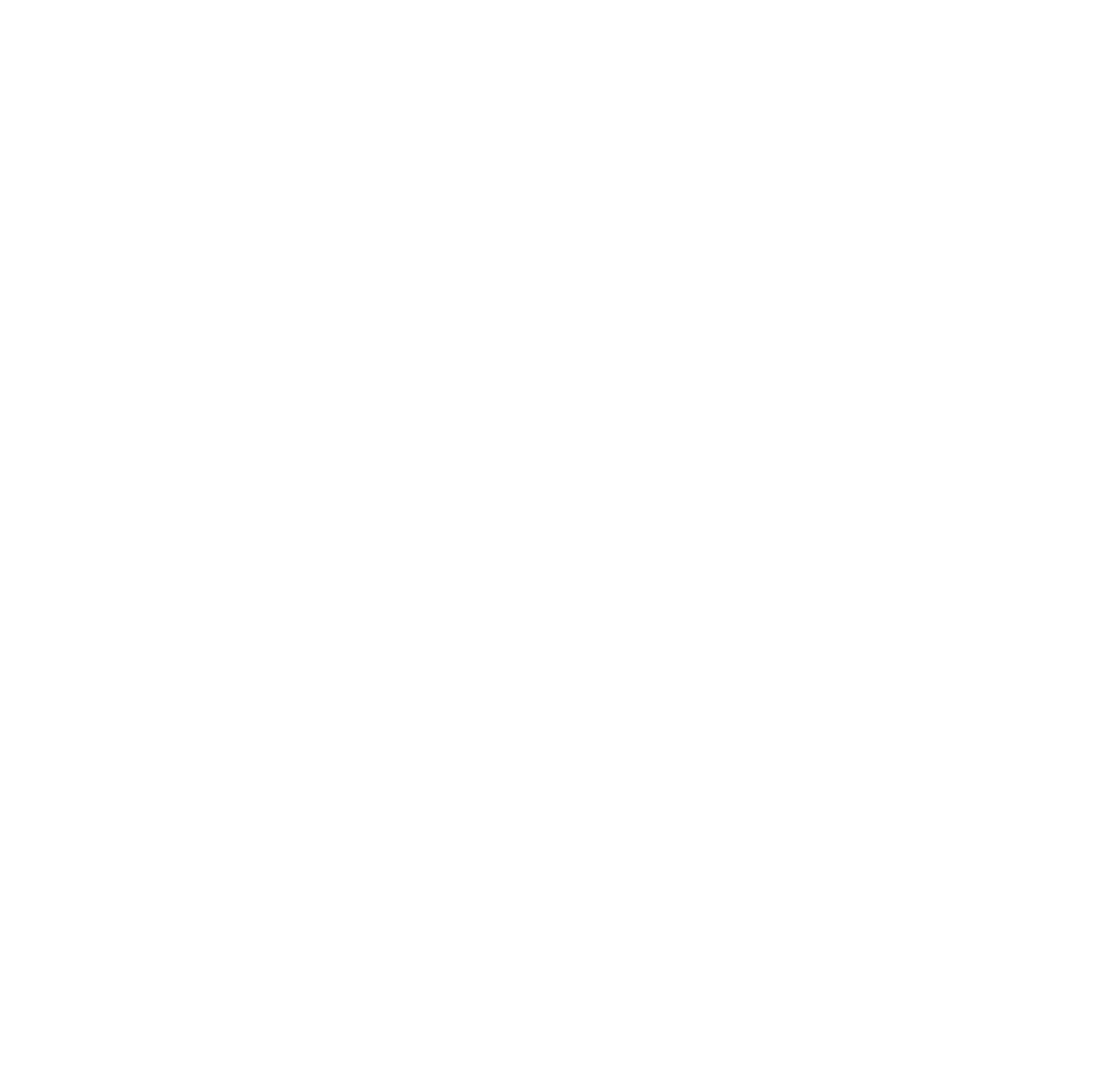
Архиепископ Иоанн (Шаховской). 1970—1980-е гг.
В один из дней 1925 года (невозможно уже вспомнить, было это летом, весной, зимой или осенью) на одной из улиц тихого и провинциального тогда Брюсселя, в уютной комнате, за большим письменным столом, заваленным рукописями, бумагами, книгами и оттисками статей, сидел худощавый молодой человек с подвижным нервным лицом, окаймленным небольшой бородкой. Он был редактором и единственным сотрудником недавно созданного им же русского литературного журнала «Благонамеренный». И вдруг — все исчезло у него перед глазами. Он явственно увидел огромную окованную металлом и украшенную драгоценными камнями книгу, стоящую на какой-то древней колеснице. На этой книге переливалась яркими цветами надпись: «Книга книг соблазна». Через какое-то время видение исчезло. По его собственному признанию, сделанному спустя много десятилетий, когда он уже был архиепископом Сан-Францисским, этот эпизод знаменовал решительный поворот в его жизни и духовной биографии.
Князь Дмитрий Алексеевич Шаховской родился в Москве 23 августа (5 сентября) 1902 года. По своему происхождению со стороны отца он принадлежал к древнейшему княжескому роду Шаховских, ведущему свою родословную, по преданию, от легендарного Рюрика, а по сохранившимся достоверным источникам — от смоленских князей Мономаховичей. Отец, действительный статский советник, оставил службу, занимался в своем имении Матово Веневского уезда и в Тульской губернии, как предводитель дворянства, общественными и крестьянскими делами, носил так же, как его знаменитый земляк, рубаху, подпоясанную ремешком. Мать Дмитрия была правнучкой архитектора Карло Росси. В семье помимо Дмитрия было еще трое сестер — Варвара, Наталья и Зинаида (в будущем известный журналист, писатель, поэт и мемуаристка).
Князь Дмитрий Алексеевич Шаховской родился в Москве 23 августа (5 сентября) 1902 года. По своему происхождению со стороны отца он принадлежал к древнейшему княжескому роду Шаховских, ведущему свою родословную, по преданию, от легендарного Рюрика, а по сохранившимся достоверным источникам — от смоленских князей Мономаховичей. Отец, действительный статский советник, оставил службу, занимался в своем имении Матово Веневского уезда и в Тульской губернии, как предводитель дворянства, общественными и крестьянскими делами, носил так же, как его знаменитый земляк, рубаху, подпоясанную ремешком. Мать Дмитрия была правнучкой архитектора Карло Росси. В семье помимо Дмитрия было еще трое сестер — Варвара, Наталья и Зинаида (в будущем известный журналист, писатель, поэт и мемуаристка).
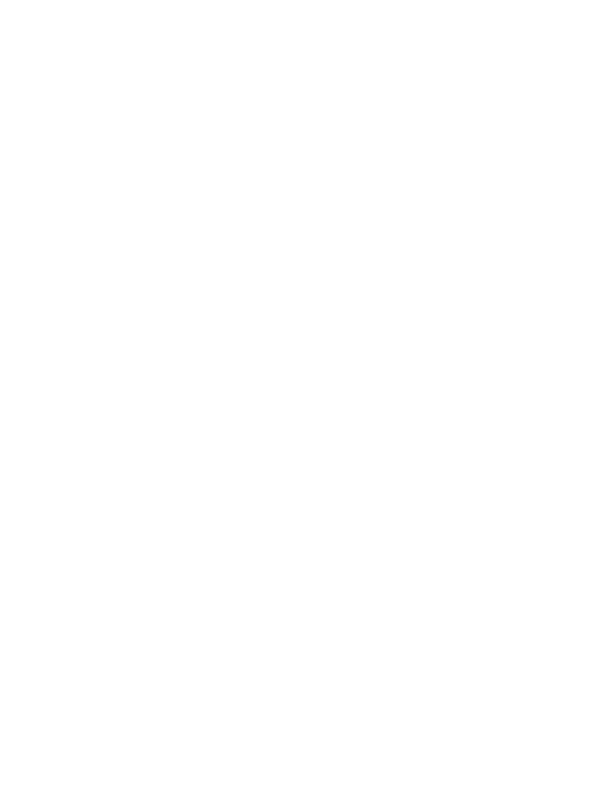
Князь Д.А. Шаховской до принятия пострига. Начало 1920-х гг.
Позднее архиепископ Иоанн признавался: «Свое детство я мог бы назвать райским». Вначале оно протекало на Сивцевом Вражеке на Арбате. Но главное прикосновение к русской жизни и природе маленький Митя Шаховской ощутил в родовом имении Матово. «В Бога я верил всегда, — признается он. — Но религиозное сознание мое было младенческим и таким оставалось до университетских лет. Я никогда не проходил в жизни через “кризис веры”, колебания или сомнения».
В 1912 году Митю и его сестру Нату отдали в Царскосельскую школу Левицкой, в которой практиковалось совместное обучение мальчиков и девочек. Проучился там Митя всего год, оканчивал он гимназию К. Мая в Санкт-Петербурге. В 1915 году он был принят в Императорский Александровский лицей, где преподавали лучшие педагоги России. Лицей по традиции выпускал дипломатов и государственных служащих. Но революционный 1917-й перевернул все вверх дном. Молодой князь едет к себе в деревню, в Тульскую губернию, где уже начинаются крестьянские бунты, мятежи. Княгиню в марте 1918 года арестовывает ЧК и затем перевозит в московские Бутырки. Дмитрий отправляется вслед спасать мать от расстрела. «Повзросление мое ускорилось, может быть, от той жизненной ответственности и новой свободы, охватившей меня», — пишет он в своих воспоминаниях. Навсегда запомнилась ему встреча с Ф.Э. Дзержинским в здании на Лубянке. Всесильный чекист на прошении о свидании с матерью, поданном ему Дмитрием, прямо в коридоре нацарапал свою резолюцию: «Разрешается». Княгиню удалось спасти.
В 1912 году Митю и его сестру Нату отдали в Царскосельскую школу Левицкой, в которой практиковалось совместное обучение мальчиков и девочек. Проучился там Митя всего год, оканчивал он гимназию К. Мая в Санкт-Петербурге. В 1915 году он был принят в Императорский Александровский лицей, где преподавали лучшие педагоги России. Лицей по традиции выпускал дипломатов и государственных служащих. Но революционный 1917-й перевернул все вверх дном. Молодой князь едет к себе в деревню, в Тульскую губернию, где уже начинаются крестьянские бунты, мятежи. Княгиню в марте 1918 года арестовывает ЧК и затем перевозит в московские Бутырки. Дмитрий отправляется вслед спасать мать от расстрела. «Повзросление мое ускорилось, может быть, от той жизненной ответственности и новой свободы, охватившей меня», — пишет он в своих воспоминаниях. Навсегда запомнилась ему встреча с Ф.Э. Дзержинским в здании на Лубянке. Всесильный чекист на прошении о свидании с матерью, поданном ему Дмитрием, прямо в коридоре нацарапал свою резолюцию: «Разрешается». Княгиню удалось спасти.
Дмитрий едет на юг, в Ростов-на-Дону, где формируется Добровольческая армия. Ему удается скрыть свой 15-летний возраст, и его зачисляют в отряд В.П. Всеволожского, который направляется под Царицын. О своем участии в Гражданской войне владыка Иоанн скажет потом так: «Мне, очевидно, должен был быть на мгновение показан ад».
Контуженного Дмитрия Шаховского помещают в клинику в Ростове-на-Дону, оттуда он направляется в Тулу, где воссоединяется с матерью и сестрами. Дальше его пути лежат в Новороссийск и Севастополь, где он становится курсантом флотской телеграфной школы, после окончания которой молодой князь служит радистом на крейсере «Алмаз», откуда его как не достигшего 18-летнего возраста переводят на пассажирский пароход «Цесаревич Георгий». Летом 1920 года Дмитрий Шаховской отправляется в эмиграцию.
Контуженного Дмитрия Шаховского помещают в клинику в Ростове-на-Дону, оттуда он направляется в Тулу, где воссоединяется с матерью и сестрами. Дальше его пути лежат в Новороссийск и Севастополь, где он становится курсантом флотской телеграфной школы, после окончания которой молодой князь служит радистом на крейсере «Алмаз», откуда его как не достигшего 18-летнего возраста переводят на пассажирский пароход «Цесаревич Георгий». Летом 1920 года Дмитрий Шаховской отправляется в эмиграцию.
«Я тоже хорошо помню Югославию, Белую Церковь, худенького иеромонаха одного… Но помню его еще и раньше, молодым поэтом Шаховским, у себя на rue Belloni в Париже — это уже более 40 лет назад. Тогда будущий архиепископ издавал и редактировал журнал “Благонамеренный”… Но особенно запомнилось мне ранее утро в Сергиевом Подворье, когда в полутьме осенней только что постриженный юный монах рассказывал мне об Афоне, переломившем его жизнь. …Господь Вас храни на долгие еще годы — трудника высокого назначения, так нужного здесь и на Родине, так подымающего всех нас своим неумолчным словом и делом».
Б.К. Зайцев. Из письма архиепископу Иоанну.
19 мая 1966 г.
Через Константинополь, Принцевы острова, где оказались в то время его мать и сестры, эвакуированные англичанами из Новороссийска, и Геную Шаховской добирается до Парижа. Молодому князю-эмигранту нужно было учиться, искать свою жизненную стезю. Он поступает в парижскую Свободную школу политических наук и начинает «чисто светскую, во многом, увы, легкомысленную жизнь». Его интересами завладевает литература и поэзия: он пишет стихи. Его первые поэтические опыты были напечатаны в мае 1922 года в журнале «Русская мысль» (Прага), редактируемом П.Б. Струве. В следующем году Шаховской выпустил в Париже первый тоненький сборник «Стихи», за которым последовали «Песни без слов» (Брюссель, 1924) и «Предметы» (Брюссель, 1926). Публиковал он свои произведения под псевдонимом Странник. Эти еще незрелые сочинения тем не менее обратили на себя внимание опытных литературных мэтров. Не чуждается Шаховской и общества эмигрантской молодежи: общается с В.В. Набоковым, В.Н. Лосским, Г.П. Струве. Но близкую душевную связь он ощущает прежде всего с И.А. Буниным, который отвечает ему теми же чувствами, сохраняющими на последующие десятилетия оттенок немного ревнивого отцовского покровительства. Часть лета 1924 года Шаховской провел на бунинской даче в Грассе. Тогда писатель работал над повестью «Митина любовь», главный герой которой имел прототипом молодого князя.
В 1922 году Шаховской стал студентом Лувенского университета в Бельгии, где тогда поселилась его мать. Там он и начал издавать свой литературный журнал «Благонамеренный». Там же стал назревать в нем и внутренний — духовный — кризис. «…Нужна чистая вера, надежда и любовь к истине Христовой, чтобы в человеке открылся тот человек, который только и в состоянии увидеть истину и быть в ней. Великое бытие все открывалось моему сознанию», — так характеризовал позднее свое состояние владыка Иоанн. «Благонамеренный» после эпизода, описанного в начале этого очерка, прекратился на втором номере.
Весной 1926 года Шаховской пишет письмо своему духовнику, епископу Вениамину (Федченкову), с просьбой разрешить ему уехать в Бельгийское Конго, чтобы начать там миссионерствовать. Ответ духовника потряс душу молодого человека: владыка Вениамин благословлял своего духовного сына отправиться на Афон, чтобы принять там монашеский постриг.
5 сентября 1926 года, в день своего 24-летия, князь Дмитрий был пострижен в рясофор в русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне с именем Иоанн в честь святого апостола Иоанна Богослова. Так начался его иноческий подвиг. По возвращении со Святой Горы Иоанн поступил в парижский богословский Сергиевский институт. Здесь он познакомился с протоиереем Сергием Булгаковым, под руководством которого написал работу «Об Именах Божиих». 2 декабря 1926 года митрополитом Евлогием (Георгиевским) в парижском Александро-Невском соборе инок Иоанн был рукоположен во иеродиакона. Через месяц о. Иоанн окажется в югославском городе Бела-Црква. Здесь будет место его первого священнического служения (он станет иеромонахом 6 марта 1927 года). По воспоминаниям тех, кого о. Иоанн духовно окормлял в те годы, он ежедневно совершал богослужения, проповедовал, навещал больных и нуждающихся. Для расширения миссионерской деятельности он организовал православное книгоиздательство «За Церковь!», выпускал газету под тем же названием. В июне 1931 года о. Иоанн перешел в юрисдикцию главы Западноевропейского Экзархата русских приходов Константинопольского Патриархата митрополита Евлогия (Георгиевского).
В феврале следующего года о. Иоанн был назначен благочинным русских приходов в Германии, находившихся в юрисдикции Западно-европейского Экзархата. А весной он стал настоятелем Свято-Владимирского храма в Берлине. Он, как и никто другой, не мог и представить, что ждет Германию и весь мир начиная с 1933 года, когда нацисты пришли к власти.
Весной 1926 года Шаховской пишет письмо своему духовнику, епископу Вениамину (Федченкову), с просьбой разрешить ему уехать в Бельгийское Конго, чтобы начать там миссионерствовать. Ответ духовника потряс душу молодого человека: владыка Вениамин благословлял своего духовного сына отправиться на Афон, чтобы принять там монашеский постриг.
5 сентября 1926 года, в день своего 24-летия, князь Дмитрий был пострижен в рясофор в русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне с именем Иоанн в честь святого апостола Иоанна Богослова. Так начался его иноческий подвиг. По возвращении со Святой Горы Иоанн поступил в парижский богословский Сергиевский институт. Здесь он познакомился с протоиереем Сергием Булгаковым, под руководством которого написал работу «Об Именах Божиих». 2 декабря 1926 года митрополитом Евлогием (Георгиевским) в парижском Александро-Невском соборе инок Иоанн был рукоположен во иеродиакона. Через месяц о. Иоанн окажется в югославском городе Бела-Црква. Здесь будет место его первого священнического служения (он станет иеромонахом 6 марта 1927 года). По воспоминаниям тех, кого о. Иоанн духовно окормлял в те годы, он ежедневно совершал богослужения, проповедовал, навещал больных и нуждающихся. Для расширения миссионерской деятельности он организовал православное книгоиздательство «За Церковь!», выпускал газету под тем же названием. В июне 1931 года о. Иоанн перешел в юрисдикцию главы Западноевропейского Экзархата русских приходов Константинопольского Патриархата митрополита Евлогия (Георгиевского).
В феврале следующего года о. Иоанн был назначен благочинным русских приходов в Германии, находившихся в юрисдикции Западно-европейского Экзархата. А весной он стал настоятелем Свято-Владимирского храма в Берлине. Он, как и никто другой, не мог и представить, что ждет Германию и весь мир начиная с 1933 года, когда нацисты пришли к власти.
РОССИЯ
Пролетела черная птица,
Сокрывающаяся во мгле —
Неизвестной страны граница,
Всем далекая на земле.
Мы на родине. Но не судьи
У дороги встают земной, —
Только утреннее безлюдье,
Облака над новой зарей.
Мы идем, земли не тревожа,
Слов последних не говоря,
А вокруг родное всё то же,
Этот лес, поля и заря.
Мы не ждем никого, не ищем,
Но вдали, где светел восток,
Над одною далекою крышей
Покосился живой дымок.
И для нас это утро сада,
Вдалеке чуть заметный дым…
Ничего иного не надо,
Пусть достанется все другим.
***
Чем старше мы, тем голос тише,
И часто кто-то нас зовет
Сквозь музыку четверостиший
В какой-то медленный полет.
И сами мы еще не знаем,
В какую радость мы идем,
Окружены уже, как Раем,
Неудаляющимся Днем.
Пролетела черная птица,
Сокрывающаяся во мгле —
Неизвестной страны граница,
Всем далекая на земле.
Мы на родине. Но не судьи
У дороги встают земной, —
Только утреннее безлюдье,
Облака над новой зарей.
Мы идем, земли не тревожа,
Слов последних не говоря,
А вокруг родное всё то же,
Этот лес, поля и заря.
Мы не ждем никого, не ищем,
Но вдали, где светел восток,
Над одною далекою крышей
Покосился живой дымок.
И для нас это утро сада,
Вдалеке чуть заметный дым…
Ничего иного не надо,
Пусть достанется все другим.
***
Чем старше мы, тем голос тише,
И часто кто-то нас зовет
Сквозь музыку четверостиший
В какой-то медленный полет.
И сами мы еще не знаем,
В какую радость мы идем,
Окружены уже, как Раем,
Неудаляющимся Днем.
Архиепископ Иоанн (Шаховской).
Из книги «Странник. Избранная лирика» (1974 г.)
«Политическая интерпретация эмиграции в Советском Союзе грешит односторонностью и необъективна в оценке той зарубежной России, которая “с севера, запада, юга и востока” вылилась со своей Родины на просторы мира и служила ей своим свободным русским словом, своей свободой и трудной для многих жизнью.
Странно было бы преувеличивать историческое значение русской эмиграции. Но нельзя его и преуменьшать. Мы были органической частью России. Мы были подобны большому кораблю, который, выйдя из родной гавани, зажил своей, по-своему полной, жизнью, ощущая, впрочем, что он лишь часть целого, что он лишь корабль своей Родины, а не ее гавань. Этот корабль поддерживал с Родиной «радиосвязь», принимал иногда шлюпки с «твердой земли» и сам отпускал от себя шлюпки на эту землю. Связь корабля с гаванью была не только в том, что он к ней формально оставался приписан, — она была в большем: корабль был частью Родины в водах мира».
Странно было бы преувеличивать историческое значение русской эмиграции. Но нельзя его и преуменьшать. Мы были органической частью России. Мы были подобны большому кораблю, который, выйдя из родной гавани, зажил своей, по-своему полной, жизнью, ощущая, впрочем, что он лишь часть целого, что он лишь корабль своей Родины, а не ее гавань. Этот корабль поддерживал с Родиной «радиосвязь», принимал иногда шлюпки с «твердой земли» и сам отпускал от себя шлюпки на эту землю. Связь корабля с гаванью была не только в том, что он к ней формально оставался приписан, — она была в большем: корабль был частью Родины в водах мира».
Архиепископ Иоанн (Шаховской). Из книги «Установление единства» (1977 г.)
Положение русских приходов в Германии и самого архимандрита Иоанна при нацистских властях было совсем не безоблачным. На Шаховского оказывалось серьезное давление: его заставили перейти в подконтрольную нацистам юрисдикцию Берлинского епископа Серафима (Ляде), нередко вызывали на допросы в гестапо, подозревая в нелояльности режиму. Но тем не менее, когда Германия напала на СССР, о. Иоанн выступил со словами поддержки, обращенными к германскому фюреру и его войскам. Был ли Шаховской приверженцем национал-социализма? Ни в коей мере! Или, может быть, тут сказались мотивы сервилизма, желание выслужиться перед нацистским государством? Вряд ли… Скорее все-го, он нераздумчиво решил, что немецкая оккупация СССР положит конец коммунистическому режиму, освободит Россию от ига большевизма. Вскоре, однако, он опомнился и изменил свою позицию. Он воспринимал происходящее с христианской точки зрения: «Тут было дело не в борьбе “Германии” с “Россией”, или — “национал-социализма” с “марксизмом”, а — в одном Божьем Суде над двумя лжерелигиями, лжемессианствами человечества, столь различными и столь одинаковыми в своем восстании против Божьего Духа…» В своем приходе о. Иоанн организовал общину сестер милосердия, детский приют, амбулаторию, сбор и отправку теплых вещей на оккупированные советские территории. Несмотря на категорическое запрещение властей, он издал в Лейпциге на русском языке полный текст Библии, а также Нового Завета и Евангелия от Марка, сославшись на то, что это необходимо для богослужений. Шаховской лично проводил отпевания умерших советских военнопленных и «остовцев», людей, депортированных на работы в Германию, которых, как правило, хоронили в общих могилах. В 1942 году он посетил лагерь для военнопленных близ Бад-Киссингена, где исповедовал и причащал русских солдат и офицеров. В начале 1943 года гестапо произвело обыск на квартире Шаховского. Его вещи, книги, бумаги и письма были опечатаны или конфискованы, а с архимандрита взяли подписку о невыезде из Берлина. Тем не менее в начале 1945 года ему удалось бежать, и он несколько месяцев скрывался в имении герцогов Лейхтенбергских в Баварии, а когда союзники после Победы разделили Германию на зоны, он перебрался во Францию.
Опасаясь своей выдачи в СССР, Шаховской в январе 1946 года отправился в США. Ему помог начать новый этап эмиграции авиаконструктор И.И. Сикорский, давний друг и поклонник о. Иоанна. Архимандрит присоединился к самоуправляющейся Православной Американской митрополии (ставшей с 1970 года Православной Церковью в Америке). Он обосновался в Лос-Анджелесе, где стал настоятелем Свято-Богородицкого храма. В 1947 году в Нью-Йорке Архиерейским Собором Американской митрополии он был хиротонисан во епископа Бруклинского с назначением деканом Свято-Владимирской православной богословской академии в Нью-Йорке.
Перед владыкой открылись новые горизонты православного пастырства, миссионерства и культурной христианской деятельности. Но все же в этот период главное его духовное дело было связано с радио. Именно радиовещание позволило его пастырскому слову проникнуть в отгороженный железным занавесом СССР. С 1948 года в течение 40 лет владыка Иоанн вел радиопередачу «Беседы с русским народом» на «Голосе Америки». Каждую неделю он выступал не как проповедник, вещающий о неотмирных вопросах, а как негромкий и неназойливый собеседник, размышляющий о насущных проблемах, с которыми сталкивается всякий человек на своем жизненном пути: о смысле и цели существования, о болезни и смерти, о присутствии зла в этом мире и о путях его преодоления… Архиепископ Сан-Францисский раскрывал подлинные основы русской культуры, проникая христианским взглядом в творчество Державина, Пушкина, Крылова, Рылеева, А.К. Толстого, Достоевского, Лескова, Чехова, Булгакова, Солженицына, Паустовского. Владыка Иоанн был открыт всякому, кто хотел с ним общаться. Скончался архиепископ Иоанн в 1989 году и после отпевания был упокоен на сербском кладбище в Санта-Барбаре.
Еще в 1930-е годы, размышляя о православном пастырстве, владыка Иоанн писал: «…Зная, что завещанная Богом борьба с терниями и волчцами земли захватывает весь разрез жизни земной, пастыри отдают все кесарево — кесарю, но самого кесаря отдают Богу, строго соблюдая иерархию жизненных ценностей. И в силу этого являются Ангелами Хранителями своего народа, его подлинной культуры, “солью” мира, свидетелями иной жизни, начинающейся в этой».
Перед владыкой открылись новые горизонты православного пастырства, миссионерства и культурной христианской деятельности. Но все же в этот период главное его духовное дело было связано с радио. Именно радиовещание позволило его пастырскому слову проникнуть в отгороженный железным занавесом СССР. С 1948 года в течение 40 лет владыка Иоанн вел радиопередачу «Беседы с русским народом» на «Голосе Америки». Каждую неделю он выступал не как проповедник, вещающий о неотмирных вопросах, а как негромкий и неназойливый собеседник, размышляющий о насущных проблемах, с которыми сталкивается всякий человек на своем жизненном пути: о смысле и цели существования, о болезни и смерти, о присутствии зла в этом мире и о путях его преодоления… Архиепископ Сан-Францисский раскрывал подлинные основы русской культуры, проникая христианским взглядом в творчество Державина, Пушкина, Крылова, Рылеева, А.К. Толстого, Достоевского, Лескова, Чехова, Булгакова, Солженицына, Паустовского. Владыка Иоанн был открыт всякому, кто хотел с ним общаться. Скончался архиепископ Иоанн в 1989 году и после отпевания был упокоен на сербском кладбище в Санта-Барбаре.
Еще в 1930-е годы, размышляя о православном пастырстве, владыка Иоанн писал: «…Зная, что завещанная Богом борьба с терниями и волчцами земли захватывает весь разрез жизни земной, пастыри отдают все кесарево — кесарю, но самого кесаря отдают Богу, строго соблюдая иерархию жизненных ценностей. И в силу этого являются Ангелами Хранителями своего народа, его подлинной культуры, “солью” мира, свидетелями иной жизни, начинающейся в этой».
Алексей Савельев
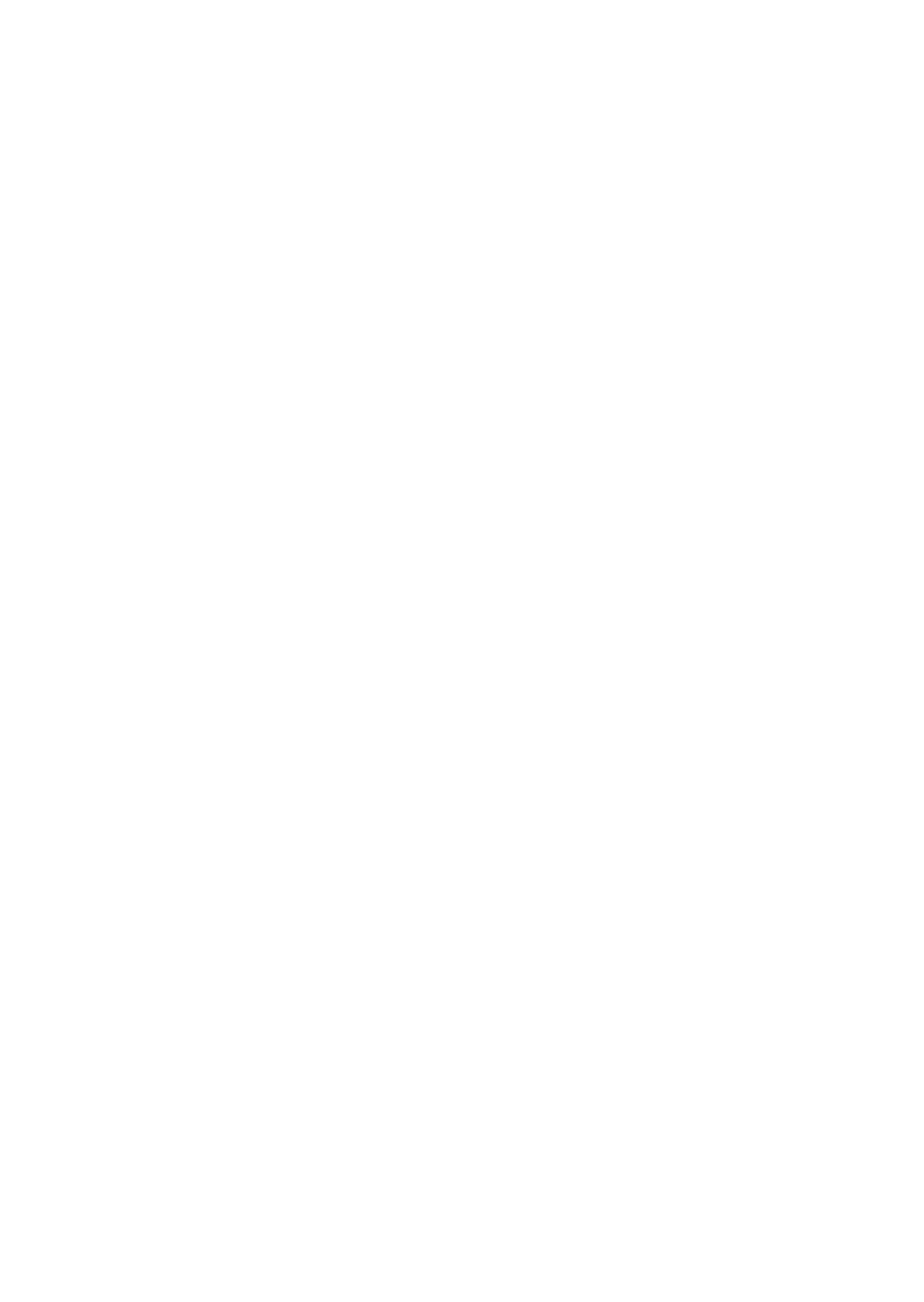
Берлин с птичьего полета
Приехав в 1931 году в Германию, о. Иоанн прожил в Берлине в общей сложности почти 15 лет. Став настоятелем Свято-Владимирского храма, он находился в городе на протяжении всего времени существования нацистского режима. С 1943 года он подвергался преследованиям, а в 1945 году был вынужден скрываться