(1862–1938)
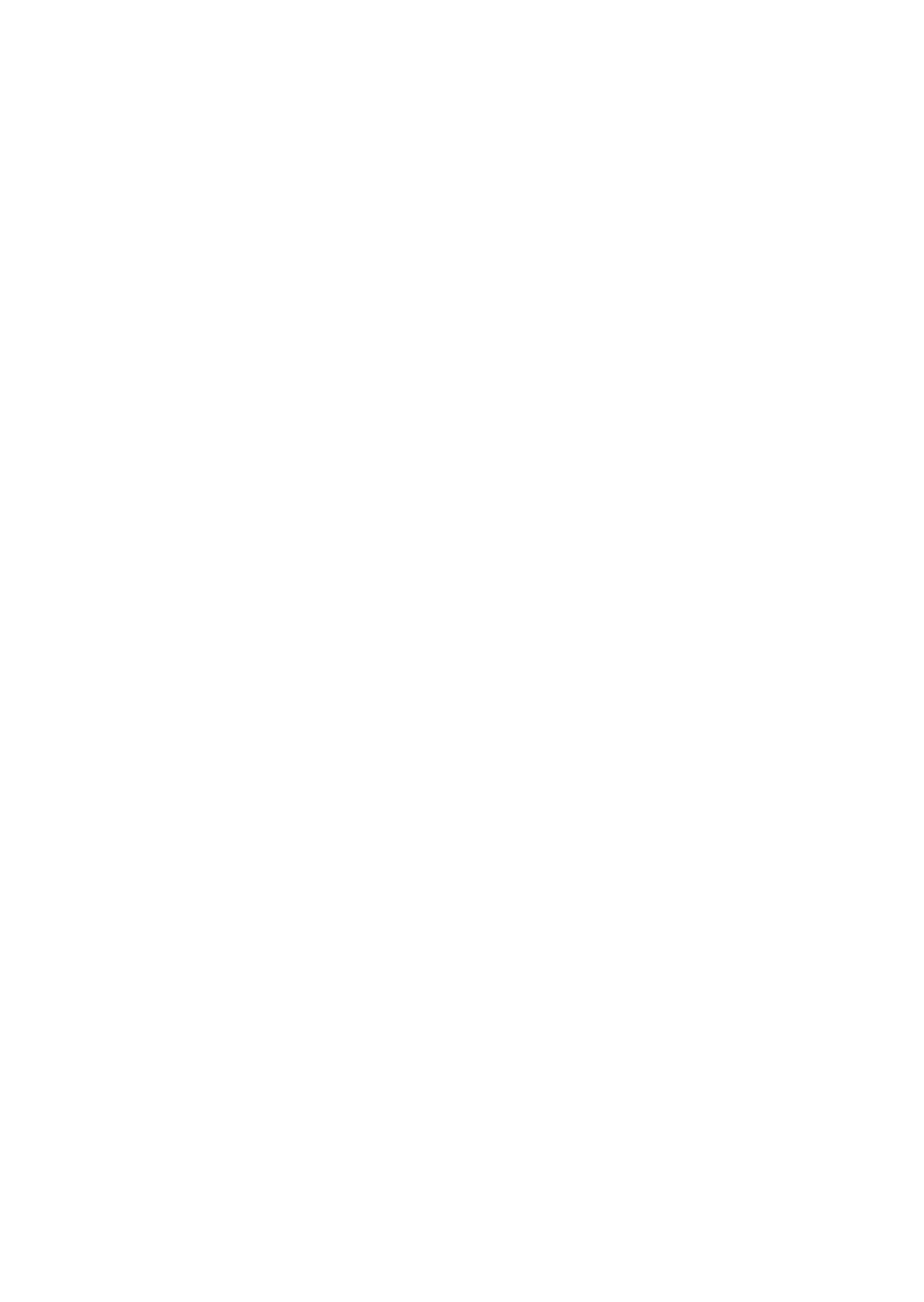
«Пусть пятка — самая безмозглая часть тела человеческого, но в пятке Толстого все-таки мозга раз в тысячу больше, чем в целом стаде Лениных, Зиновьевых, Троцких, Каменевых et tutti quanti!»
Из сатирического журнала «Бич». 1917. № 41
14 (26) декабря 1862 г. — родился в Калуге
17 мая 1878 г. — публикация первого стихотворения в журнале «Пчела»
1882–1886 гг. — сотрудничество с юмористическими журналами «Будильник» и «Осколки»
1891–1899 гг. — работа в газете «Новое время»
1899 г. — совместно с В.М. Дорошевичем основал газету «Россия»
1902 г. — публикация антимонархического памфлета (13 января), ссылка в Минусинск
1906–1916 гг. — жил в Италии
23 августа 1921 г. — начало эмиграции
26 февраля 1938 г. — скончался в Леванто (Италия)
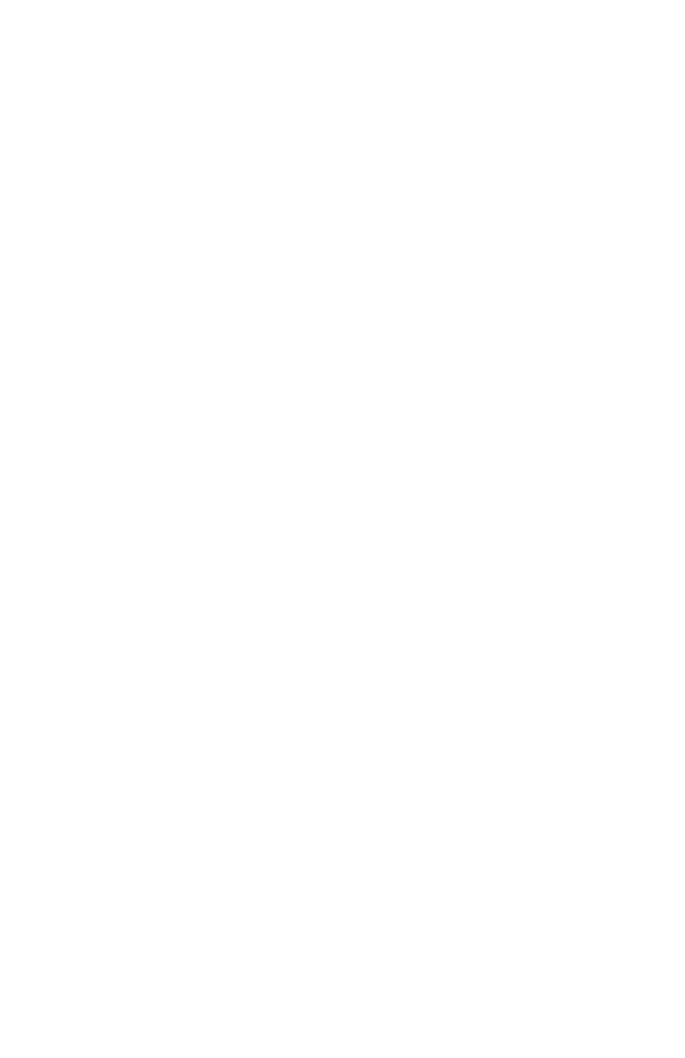
А.В. Амфитеатров. 1880-е гг.
«Амфитеатров — впереди Гоголя, Достоевского и Толстого, впереди Горького, Леонида Андреева и Куприна. Книги его увидите всюду: в витрине магазина, в киоске вокзала, в вагоне», — констатировал в 1911 году критик В.Л. Львов-Рогачевский. Энциклопедист, знаток русской истории и фольклора, оперный артист, журналист, редактор, книжник, собравший одну из лучших личных библиотек своего времени (в 1923 году ее приобрело правительство Чехословакии), Амфитеатров был поистине полифонической личностью, поражая разносторонними увлечениями и кипучей энергией.
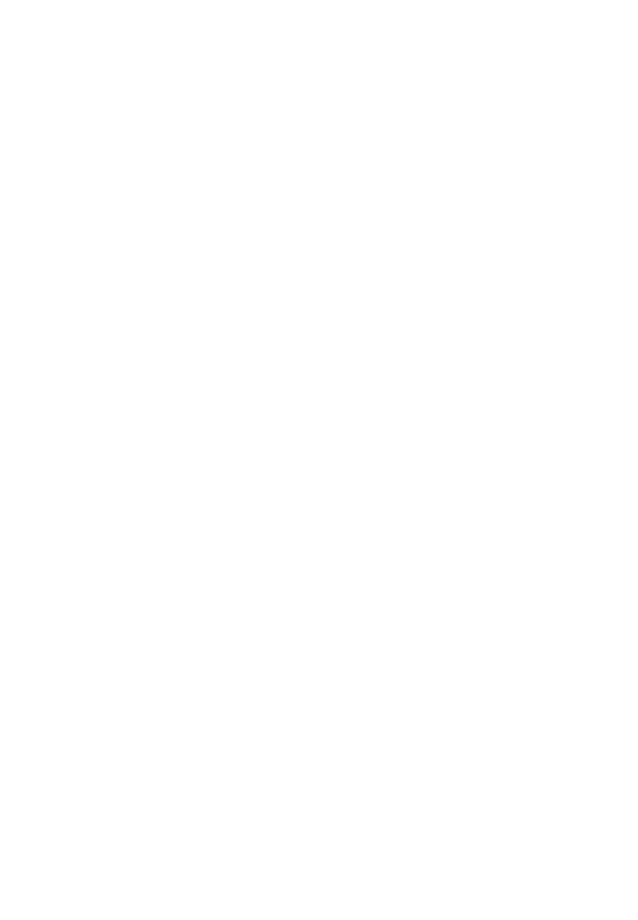
С детства Александра захватила любовь к сцене. Обладая красивым от природы голосом, еще в старших классах гимназии он решил посвятить свою жизнь опере. Прослушавший его Н.Г. Рубинштейн был готов зачислить талантливого баритона в Московскую консерваторию. Примерно в то же время в петербургском юмористическом журнале «Пчела» публикуется первое стихотворение шестнадцатилетнего гимназиста. Казалось, будущность его предопределена одним из двух направлений, в которых он так успешно дебютировал. Однако Александр неожиданно выбрал третье, поступив на юридический факультет Московского университета. Не потому, что его интересовала юриспруденция, — манило университетское свободомыслие. Несмотря на увещевания родителей, юноша увлекся вольнодумными теориями, все дальше отходя от церкви, обрушивался на самодержавие, чем заставлял глубоко страдать отца Валентина, преданного сторонника монархии.
А.А. Измайлов. «Бегом через жизнь».
Из книги «Пестрые знамена. Литературные портреты безвременья» (1913 г.)
В.В. Розанов. «Амфитеатров».
Из газеты «Новое время». 13 мая 1910 г.
Амфитеатров по природе своей был бунтарем. Не имея определенной политической платформы, он, казалось, просто всегда действовал «наперекор». После восьми лет успешного сотрудничества с газетой А.С. Суворина «Новое время», в русском либеральном обществе имевшей репутацию сервильной и реакционной, Амфитеатров неожиданно со скандалом порвал с ней, чтобы совместно с В. М. Дорошевичем приступить к изданию собственной газеты прямо противоположного направления — «Россия», в которой он начал с острых фельетонов, уничтожающих бывшего патрона. За опубликованный в этой газете в январе1902 года глумливый памфлет «Господа Обмановы» (в героях которого без труда угадывались царствующие Романовы, а в их вотчине, селе Большие Головотяпы — Россия) Амфитеатров был арестован и сослан в Сибирь. Спустя годы этот убежденный антимонархист с негодованием заклеймит убийц царской семьи в книге «Советские узы. Очерки и воспоминания 1918–1921»: «Двадцать лет боролся я пером с державою и именем этого человека, и если бы он был жив и продолжал царствовать, я боролся бы против него и теперь. <…> Национальный суд над преступным царем, чем бы он ни кончился, я горячо приветствовал бы. <…> Но мерзостный, бессудный, произволом дикой захолустной шайки продиктованный и осуществленный разбойничий способ истребления бывших царя и царицы с их уже вовсе ни в чем не повинными дочерями наполнил мою душу ужасом и отвращением…»
И.С. Шмелев. «Русский писатель: полвека писательского труда А. В. Амфитеатрова». Из газеты «Россия и славянство». 23 июля 1932 г.
До весны 1922 года Амфитеатров остается в Праге, затем переезжает в Италию, где проживет до конца своих дней. Вопрос о возвращении на Родину перед ним никогда не стоял. Он заявлял: «…если в эмиграции останется только один человек — это буду я».
В конце 1920-х годов Амфитеатров задумал написать воспоминания, озаглавив их «Жизнь человека, неудобного для себя и для многих». В этом длинном названии — самая емкая характеристика противоречивого писателя.
Елена Трубилова
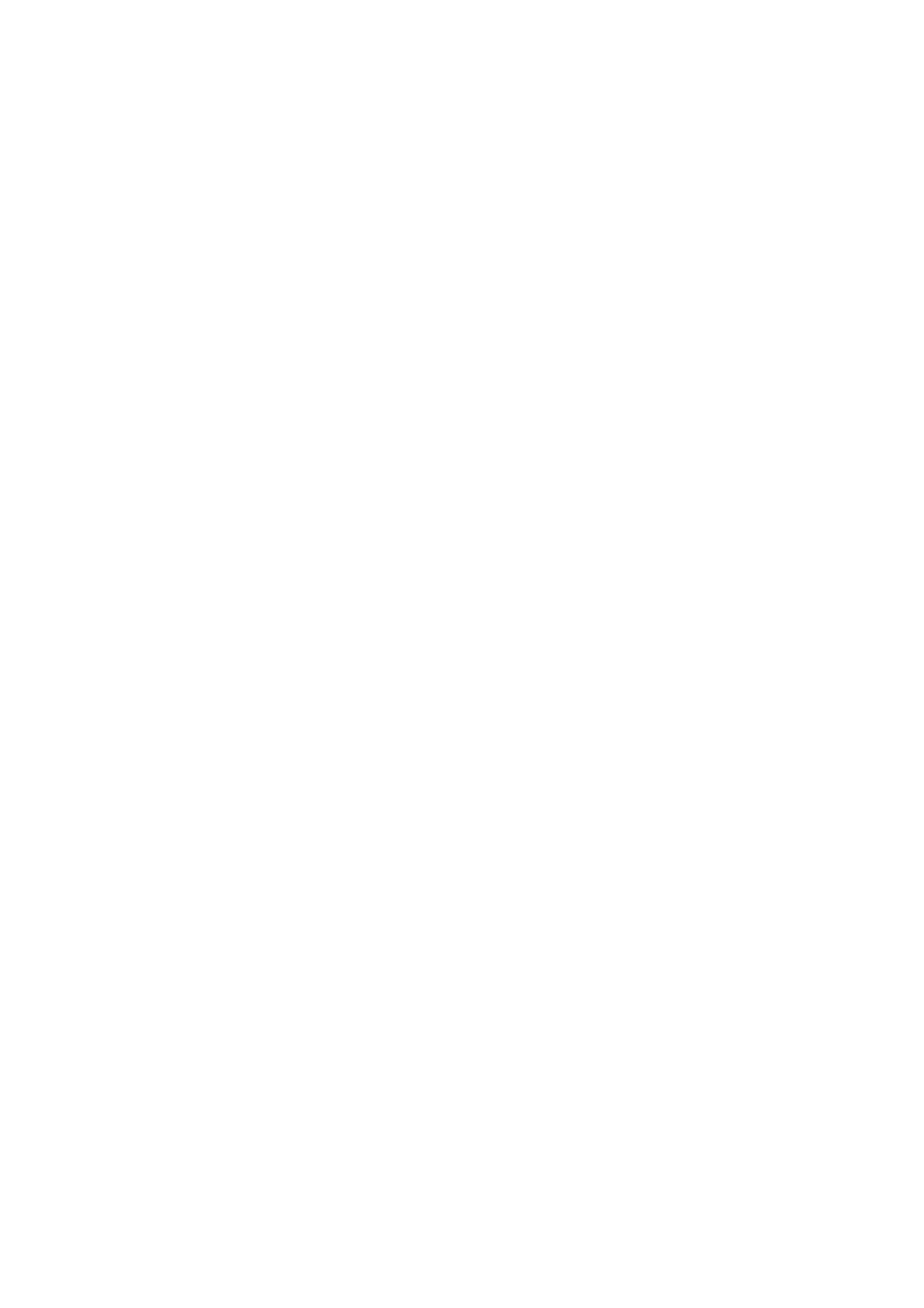
Пьяцца ди Спанья в Риме
В октябре 1917 года в Риме начинают ходить слухи о том, что Амфитеатров будет назначен российским послом в Италии: «Амфитеатров великий человек, может быть самый великий среди современников: высокого роста, весит 180 килограммов, у него две легальные жены, много детей, 80 изданных томов и долги на 100 тысяч лир; приехал сюда крайне бедный 12 лет назад. Он выдающийся человек, добрый, любит Италию, как только русские ее любят, человек огромной культуры, глубокий знаток римской истории…»
Из письма О.И. Ресневич-Синьорелли
к Дж. Папини от 23 октября 1917 г.