Русский Джон, летчик и авиаконструктор
Джон (Иван Давович) Акерман (1897–1972)
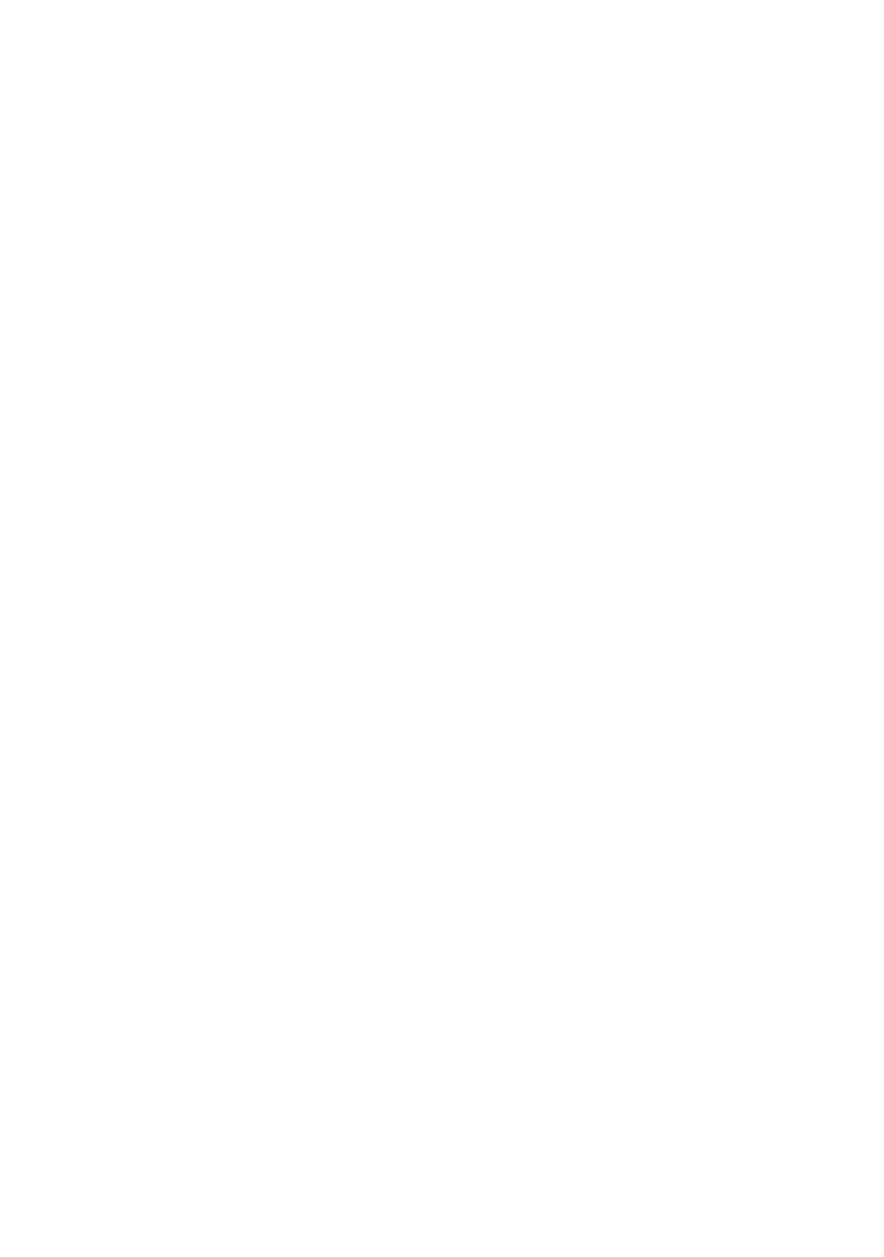
Вся жизнь — полет!
«Будущему авиационному инженеру предстоит работать не в тиши академических кабинетов, а непосредственно в заводских цехах и чертежных, в грязи и бензиновых лужах аэродромов. Он должен уметь пилотировать и ремонтировать самолет и двигатель, объяснить чертежнику, как сделать деталировку сложного механизма».
«Будущему авиационному инженеру предстоит работать не в тиши академических кабинетов, а непосредственно в заводских цехах и чертежных, в грязи и бензиновых лужах аэродромов. Он должен уметь пилотировать и ремонтировать самолет и двигатель, объяснить чертежнику, как сделать деталировку сложного механизма».
Дж. Акерман.
Из вступления к учебной программе
авиационного факультета
Университета Миннесоты
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
12 (24) апреля 1897 г. — родился в Курляндской губернии (Российская империя)
1916–1917 гг. — обучался в московской и французских авиашколах
1918 г. — эмигрировал в США
1936–1958 гг. — организовал авиафакультет в Университете Миннеаполиса, где стал деканом
1928–1958 гг. — главный конструктор и научный консультант ряда авиастроительных фирм и правительственных структур, в том числе «Боинг Эйркрафт» и Национального
консультативного совета по аэронавтике (NACA)
1953–1962 гг. — организатор и директор аэродинамической лаборатории «Роземаунт»
8 января 1972 г. — скончался в Миннеаполисе
12 (24) апреля 1897 г. — родился в Курляндской губернии (Российская империя)
1916–1917 гг. — обучался в московской и французских авиашколах
1918 г. — эмигрировал в США
1936–1958 гг. — организовал авиафакультет в Университете Миннеаполиса, где стал деканом
1928–1958 гг. — главный конструктор и научный консультант ряда авиастроительных фирм и правительственных структур, в том числе «Боинг Эйркрафт» и Национального
консультативного совета по аэронавтике (NACA)
1953–1962 гг. — организатор и директор аэродинамической лаборатории «Роземаунт»
8 января 1972 г. — скончался в Миннеаполисе
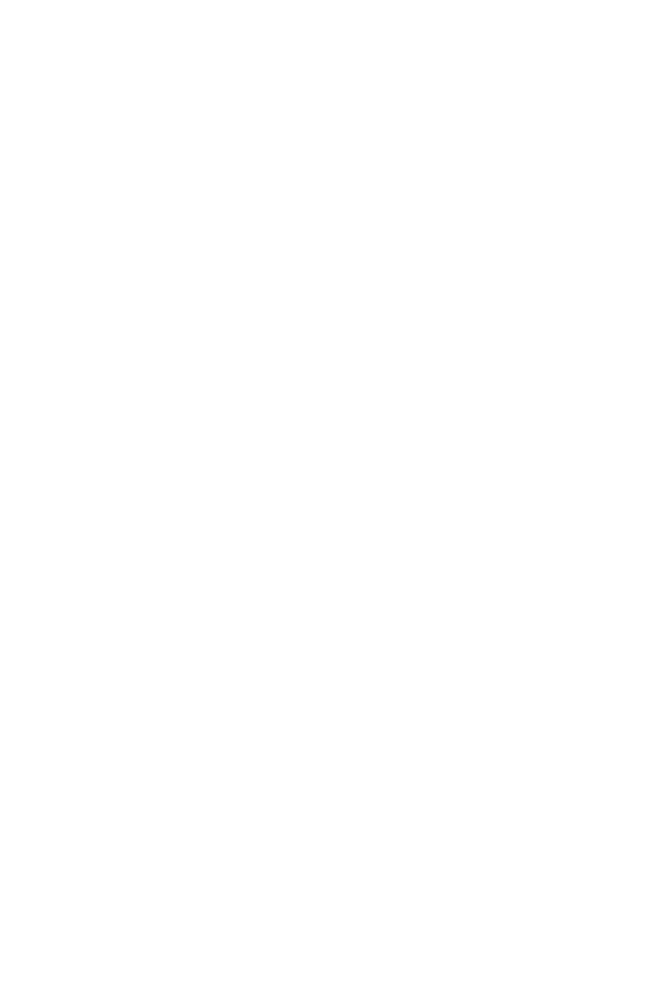
Дж. Акерман. 1925 г.
Будущий летчик и авиаконструктор Иван Акерман, собиравшийся летом 1916 года поступать в Императорское московское техническое училище (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана), увидел на его дверях объявление: «Набираются охотники на теоретические курсы авиации профессора Н.Е.Жуковского. Курсы четырехмесячные. Образование не ниже среднего. Возраст — от 18 до 28 лет». Юноша не сомневаясь подал прошение и после прохождения медицинской комиссии стал слушателем курсов. Этот выбор предопределил всю его дальнейшую жизнь.
А началось его увлечение авиацией в Курляндии (так называлась Западная часть Латвии), где в деревне Руендальской он — Янис Давович Акерман — появился на свет 12 (24) апреля 1897 года. Отец его был лютеранского вероисповедания, родом из Грузии, а мать происходила из Белоруссии. Иван-Янис родными языками считал русский и латышский.
Увидев однажды в Риге полет аэро плана, юноша стал собирать всю доступную литературу о первых летчиках, аэропланах и авиаконструкторах. В свободное время мастерил летающие модели и даже начал строить балансирный планер.
Первая мировой война разрушила все планы: Акерманы из Прибалтики эвакуировались вглубь России. Завершать образование решено было в Московском Императорском техническом училище, где Иван и наткнулся на объявление о приеме на курсы авиации.
Преподавателями в училище были известные ученые и инженеры М.Ф. Адамчик, Б.М. Бубекин, В.П. Ветчинкин, Г.И. Лукьянов, А.А. Микулин, Г.М. Мусинянц, Д.П. Рябушинский, Б.С. Стечкин, К.А. Ушаков и другие. Но своим главным учителем Акерман всю жизнь считал великого ученого, основоположника современной аэродинамики Николая Егоровича Жуковского.
Практический опыт, полученный в прекрасно оснащенных лабораториях училища, впоследствии пригодился Акерману при проектировании экспериментальных баз американских университетов.
А началось его увлечение авиацией в Курляндии (так называлась Западная часть Латвии), где в деревне Руендальской он — Янис Давович Акерман — появился на свет 12 (24) апреля 1897 года. Отец его был лютеранского вероисповедания, родом из Грузии, а мать происходила из Белоруссии. Иван-Янис родными языками считал русский и латышский.
Увидев однажды в Риге полет аэро плана, юноша стал собирать всю доступную литературу о первых летчиках, аэропланах и авиаконструкторах. В свободное время мастерил летающие модели и даже начал строить балансирный планер.
Первая мировой война разрушила все планы: Акерманы из Прибалтики эвакуировались вглубь России. Завершать образование решено было в Московском Императорском техническом училище, где Иван и наткнулся на объявление о приеме на курсы авиации.
Преподавателями в училище были известные ученые и инженеры М.Ф. Адамчик, Б.М. Бубекин, В.П. Ветчинкин, Г.И. Лукьянов, А.А. Микулин, Г.М. Мусинянц, Д.П. Рябушинский, Б.С. Стечкин, К.А. Ушаков и другие. Но своим главным учителем Акерман всю жизнь считал великого ученого, основоположника современной аэродинамики Николая Егоровича Жуковского.
Практический опыт, полученный в прекрасно оснащенных лабораториях училища, впоследствии пригодился Акерману при проектировании экспериментальных баз американских университетов.
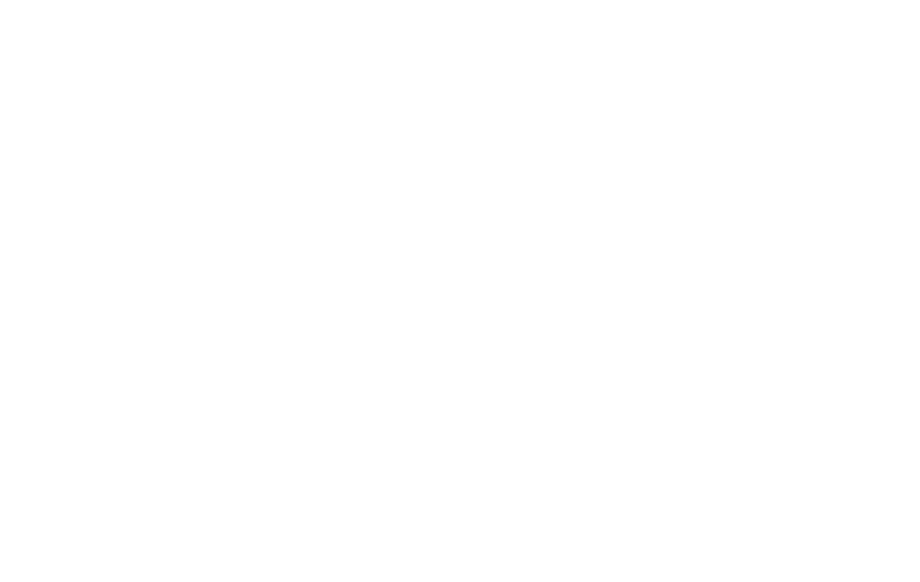
Одна из групп российских пилотов, проходивших обучение во французских авиашколах [1917 г.]
После завершения теоретической подготовки слушатели получали направления в авиашколы, где знакомились с устройством самолетов и по очереди поднимались в небо. В декабре 1916 года «воздушное крещение» получил и Иван Акерман, направленный в Московскую школу авиации военного времени на Ходынке. После того как молодой курсант научился разбирать и собирать моторы «Гном» и регулировать учебные самолеты «Фарман-4», инструктор посадил Ивана на пассажирское сиденье. Чувство сопричастности в управлении крылатой машиной охватывало ученика во время коротких пятиминутных полетов по кругу на небольшой высоте. Быстро переняв навык управления аппаратами во время тренировочных полетов в качестве пассажира, курсант менялся местами с инструктором и отрабатывал самостоятельные взлет и посадку.
Иван Акерман оказался способным курсантом и быстро освоил пилотаж на боевых истребителях «Моран» и «Ньюпор». В результате его произвели из рядовых в младшие унтер-офицеры, и он уже готовился стать инструктором, однако его судьба сделала очередной поворот: он оказался во Франции.
В Европе полыхала Великая война, войска союзников усиленно готовились к летней кампании 1917 года. Авиации в этих боях предстояло завоевать «господство в воздухе». Французы и британцы предложили поделиться своим боевым опытом, обучив в своих школах российских летчиков и мотористов. Для их стажировки во французские военные авиашколы решено было послать группу российских пилотов в составе 30 офицеров и 100 нижних чинов под командованием опытного летчика — начальника Московской авиашколы капитана Н.А. Гавина. В эту группу вошли самые успешные ученики, в том числе Акерман, получивший отличные рекомендации.
В Европе полыхала Великая война, войска союзников усиленно готовились к летней кампании 1917 года. Авиации в этих боях предстояло завоевать «господство в воздухе». Французы и британцы предложили поделиться своим боевым опытом, обучив в своих школах российских летчиков и мотористов. Для их стажировки во французские военные авиашколы решено было послать группу российских пилотов в составе 30 офицеров и 100 нижних чинов под командованием опытного летчика — начальника Московской авиашколы капитана Н.А. Гавина. В эту группу вошли самые успешные ученики, в том числе Акерман, получивший отличные рекомендации.
«Основой и первым стимулом моей деятельности в области авиационной науки я считаю лекции, консультации и личные беседы, которые я имел в Императорском Техническом училище с профессором
Н. Е. Жуковским».
Н. Е. Жуковским».
Дж. Акерман. Из воспоминаний
В конце февраля 1917 года специальный эшелон увозил их в Романов-на-Мурмане (современный Мурманск), откуда морем им предстояло добираться до Франции. В пути пришло известие о Февральской революции, и последующая недельная череда событий всплывала в памяти Ивана Акермана отдельными яркими воспоминаниями: выгрузка из вагонов, присяга Временному правительству, погрузка на британский пароход, бегство от германских подводных лодок на переходе по Северному морю. По счастью, крылатые сыны новой России добрались до берегов Франции без потерь.
Обучение летчиков во Франции началось в начальной авиашколе в Аворе. Успешно сдав экзамены по управлению «Кодроном С-3» и быстроходным «Ньюпором», Иван получил французский диплом за № 7492 и направление в школу высшего пилотажа в По, а затем с отличием окончил и школу воздушного боя «Эколь де Тир Аериен» в Козо.
Обучение летчиков во Франции началось в начальной авиашколе в Аворе. Успешно сдав экзамены по управлению «Кодроном С-3» и быстроходным «Ньюпором», Иван получил французский диплом за № 7492 и направление в школу высшего пилотажа в По, а затем с отличием окончил и школу воздушного боя «Эколь де Тир Аериен» в Козо.
Казалось бы, такая превосходная подготовка летчика-истребителя подразумевала, что его вскоре направят на фронт, но в августе 1917 года Акерман оказался в Милане. Командование решило применить его таланты в закупочной авиационной комиссии в Италии.
Чтобы восполнить недостаток аэро планов на фронте, был намечен лицензионный выпуск итальянских бомбардировщиков «Капрони С-3» в России. А первую партию решили отправить своим ходом из Италии по воздуху, да еще с русскими экипажами.
И летчик-истребитель Иван Акерман, так и не совершив ни одного боевого вылета, занялся подготовкой бомбардировщиков к небывалому перелету по маршруту Милан — Бриндизи — Салоники, а затем через Болгарию и Черное море до Одессы. Командиром одного из экипажей стал опытный военный летчик штабс-ротмистр Н.С. Воеводский, который научил Акермана управлять тяжелой трехмоторной машиной.
Чтобы восполнить недостаток аэро планов на фронте, был намечен лицензионный выпуск итальянских бомбардировщиков «Капрони С-3» в России. А первую партию решили отправить своим ходом из Италии по воздуху, да еще с русскими экипажами.
И летчик-истребитель Иван Акерман, так и не совершив ни одного боевого вылета, занялся подготовкой бомбардировщиков к небывалому перелету по маршруту Милан — Бриндизи — Салоники, а затем через Болгарию и Черное море до Одессы. Командиром одного из экипажей стал опытный военный летчик штабс-ротмистр Н.С. Воеводский, который научил Акермана управлять тяжелой трехмоторной машиной.
«Будущему авиационному инженеру предстоит работать не в тиши академических кабинетов, а непосредственно в заводских цехах и чертежных, в грязи и бензиновых лужах аэродромов. Инженер должен уметь пилотировать и ремонтировать самолет и двигатель, собственными руками показать рабочему, как изготовить нужную деталь, объяснить чертежнику, как сделать деталировку сложного механизма».
Дж. Акерман. Из предисловия
к разработанному им плану учебных программ
Перелет должен был стартовать в конце октября 1917 года, но после получения известия о большевистском перевороте вылет запретили. Русская военная миссия предложила новый маршрут: напрямую из Италии в Одессу, без промежуточных посадок, но Брестский мир поставил крест на всех планах. Отношения между былыми союзниками окончательно расстроились.
Подготовленные русские экипажи перебрались вместе с военной миссией сначала во Францию, затем Великобританию, где их пути разошлись. Прапорщик Акерман решил направиться в Новый Свет.
Подготовленные русские экипажи перебрались вместе с военной миссией сначала во Францию, затем Великобританию, где их пути разошлись. Прапорщик Акерман решил направиться в Новый Свет.
К тому времени сотрудники российского посольства и закупочных миссий в США были предоставлены сами себе, устраивались на любую работу. Так бывший летчик Акерман поначалу устроился в казачий хор, где изумлял публику зажигательными танцами. Затем в числе многих русских нашел место у Генри Форда в Детройте. Работа была тяжелой, но Иван не терял надежды продолжить авиационную карьеру: летал в местном аэроклубе, учил английский язык, и, окончив колледж, получил американский диплом о среднем образовании.
В мирное время множество квалифицированных военных летчиков осталось без работы, и Акерман понимал, что перспективнее строить карьеру авиационного конструктора. В 1922 году он стал студентом факультета аэронавтики в Мичиганском университете. Повезло, что стоимость обучения была невелика, а деканом факультета являлся выходец из России Феликс Павловский. Иван не только получал новые знания, но и щедро делился опытом и методиками, которые узнал на курсах своего учителя Н.Е. Жуковского. Уже в феврале 1925 года он окончил университет и стал дипломированным инженером по авиационной технике.
В мирное время множество квалифицированных военных летчиков осталось без работы, и Акерман понимал, что перспективнее строить карьеру авиационного конструктора. В 1922 году он стал студентом факультета аэронавтики в Мичиганском университете. Повезло, что стоимость обучения была невелика, а деканом факультета являлся выходец из России Феликс Павловский. Иван не только получал новые знания, но и щедро делился опытом и методиками, которые узнал на курсах своего учителя Н.Е. Жуковского. Уже в феврале 1925 года он окончил университет и стал дипломированным инженером по авиационной технике.
«Моя жизнь бывала сумасшедшей, но никогда не была скучной. Много дел начато и еще не доделано. Хотелось бы пожить подольше и узнать побольше. В то же время, может, это прозвучит смешно, если утром мне предстоит уйти, я уйду безо всяких сожалений».
Дж. Акерман. Из выступления
по американскому телевидению (1971 г.)
Короткая поездка к родным в независимую Латвию похоронила надежду о возвращении на родину: делать там авиационному инженеру было нечего, а появляться в Советской России — слишком рискованно. Окончательный выбор был сделан. Получив американское гражданство, курляндец Иван Акерман превратился в John D. Akerman.
Увлекшийся самолетостроением, Генри Форд предоставил молодому авиаконструктору Акерману возможность поучаствовать в разработке первых металлических самолетов США — так называемых «жестяных гусей» «Форд 4-АТ», которые активно использовались на пассажирских авиалиниях. Но Акерман намеревался продолжить свою карьеру в науке, тем более что летом 1927 года он женился на Флоренс Симонс, и надо было содержать семью.
Увлекшийся самолетостроением, Генри Форд предоставил молодому авиаконструктору Акерману возможность поучаствовать в разработке первых металлических самолетов США — так называемых «жестяных гусей» «Форд 4-АТ», которые активно использовались на пассажирских авиалиниях. Но Акерман намеревался продолжить свою карьеру в науке, тем более что летом 1927 года он женился на Флоренс Симонс, и надо было содержать семью.
Чтобы продолжать образование, Акерман поступил в магистратуру Мичиганского университета, где занялся научно-исследовательской работой. Молодому специалисту доверили проектирование и строительство аэродинамических труб и экспериментальных стендов для новейшей Гугенхеймовской лаборатории. Успешно выполненная работа сделала его известным в авиационных кругах. Акерман стал членом Национального аэронавтического общества и главным конструктором фирмы «Хамильтон».
Фирма выпустила самолеты «Серебряный орел» и «Серебряный лебедь», которыми заинтересовались американские авиакомпании. Акерман разработал удачную модификацию Н-21, ставшую первым металлическим транспортным самолетом, который получил сертификат летной годности в США. На его основе было выпущено более 20 экземпляров Н-45 и поплавковой модификации Н-46, эксплуатировавшихся на авиалиниях Чикаго. Акерман не просто проектировал и летал на этих самолетах, но и разрабатывал для них воздушные трассы. Так русский эмигрант стал не только одним из пионеров американского пассажирского самолетостроения, но и одним из основоположников первых пассажирских авиалиний США.
Фирма выпустила самолеты «Серебряный орел» и «Серебряный лебедь», которыми заинтересовались американские авиакомпании. Акерман разработал удачную модификацию Н-21, ставшую первым металлическим транспортным самолетом, который получил сертификат летной годности в США. На его основе было выпущено более 20 экземпляров Н-45 и поплавковой модификации Н-46, эксплуатировавшихся на авиалиниях Чикаго. Акерман не просто проектировал и летал на этих самолетах, но и разрабатывал для них воздушные трассы. Так русский эмигрант стал не только одним из пионеров американского пассажирского самолетостроения, но и одним из основоположников первых пассажирских авиалиний США.
В 1928 году Акерман назначен профессором механического факультета университета Миннеаполиса, где за год организовал и возглавил факультет аэронавтики. Должность декана он занимал почти 30 лет, будучи не только преподавателем многих дисциплин, но и летным инструктором. Джон Акерман явился также родоначальником высшего авиационного образования женщин. Первой женщиной, окончившей факультет, стала известная летчица-спортсменка Джин Бернхил.
Получив признание в научных кругах, Акерман стал членом Американского института аэронавтики и астронавтики и Британского Королевского аэронавтического общества, удостоившись специальных наград за вклад в развитие авиационной науки.
Акерман не забывал и о России. В 1935 году он предложил Наркомпросу прочитать в Москве цикл лекций. Но с таким трудом согласованная поездка оставила, вероятно, настолько неприятные впечатления, что Акерман старался никогда о ней не вспоминать. Латвия же встретила знаменитого соотечественника с большей теплотой: он выступил с лекциями и активно консультировал латышских авиаконструкторов.
Вернувшись в США, Акерман увлекся исследованиями стратосферы. Совместно с Жаном Пиккаром он разработал серьезную международную научную программу. В 1939 году вместе с женой он опять отправился в Европу. Его ждали на заводах Франции и родной Латвии, где их настигла Вторая мировая война. И если в 1914 году от военных действий семья бежала в Москву, то через 25 лет — уже в противоположную сторону, в США, через Эстонию и Скандинавию.
Получив признание в научных кругах, Акерман стал членом Американского института аэронавтики и астронавтики и Британского Королевского аэронавтического общества, удостоившись специальных наград за вклад в развитие авиационной науки.
Акерман не забывал и о России. В 1935 году он предложил Наркомпросу прочитать в Москве цикл лекций. Но с таким трудом согласованная поездка оставила, вероятно, настолько неприятные впечатления, что Акерман старался никогда о ней не вспоминать. Латвия же встретила знаменитого соотечественника с большей теплотой: он выступил с лекциями и активно консультировал латышских авиаконструкторов.
Вернувшись в США, Акерман увлекся исследованиями стратосферы. Совместно с Жаном Пиккаром он разработал серьезную международную научную программу. В 1939 году вместе с женой он опять отправился в Европу. Его ждали на заводах Франции и родной Латвии, где их настигла Вторая мировая война. И если в 1914 году от военных действий семья бежала в Москву, то через 25 лет — уже в противоположную сторону, в США, через Эстонию и Скандинавию.
«Так как мне при работе все время приходится перерабатывать массу всевозможной информации и никогда не хватает собственного времени на отработку деталей конструкций и проведение рутинных расчетов, я всегда содержу как минимум четырех помощников, которые, будучи хорошо знакомы с моими методами и требованиями, помогают мне отработкой деталей. Это дает мне возможность не только исполнять должность профессора и комиссара по авиации, но и позволяет иметь широкую практику сотрудничества с промышленностью и свой штат инженеров для консультации предприятий по всевозможным вопросам».
Дж. Акерман. Из московской лекции (1935 г.)
В годы войны Акерман активно работает на своем факультете, консультирует известные авиастроительные фирмы, государственные службы и учреждения. Незадолго до высадки союзников в Нормандии в 1944 году бывший русский летчик стал специальным советником американских ВВС. Акерману удалось в составе особых групп по вывозу немецкого оборудования и материалов первым ознакомиться с новейшими достижениями немецкой авиационной и ракетной научной школы, а также пригласить к сотрудничеству самых перспективных немецких специалистов, находящихся в лагерях для военнопленных.
Акерман был консультантом крупнейшей авиакомпании «Боинг», для которой разработал профиль и форму крыла «летающей крепости» «Боинг В-52» и авиалайнера В-377.
Акерман был консультантом крупнейшей авиакомпании «Боинг», для которой разработал профиль и форму крыла «летающей крепости» «Боинг В-52» и авиалайнера В-377.
В конце 1945 года Акерман ак-тивно включился в решение новой задачи — проектирование научно-исследовательского центра «Роземаунт», где начали создавать первые сверхзвуковые аэродинамические трубы. Центр ввели в строй в 1953 году, а его директором был назначен Джон Акерман. «Роземаунт» стал местом проведения уникальных исследований, необходимых как для авиационной промышленности, так и для военных целей. Его руководителем, несмотря на два перенесенных инфаркта, Акерман работал вплоть до ухода на пенсию в 1962 году. Скончался Джон-Янис-Иван Акерман после третьего инфаркта 8 января 1972 года в Миннеаполисе.
Александр Божко
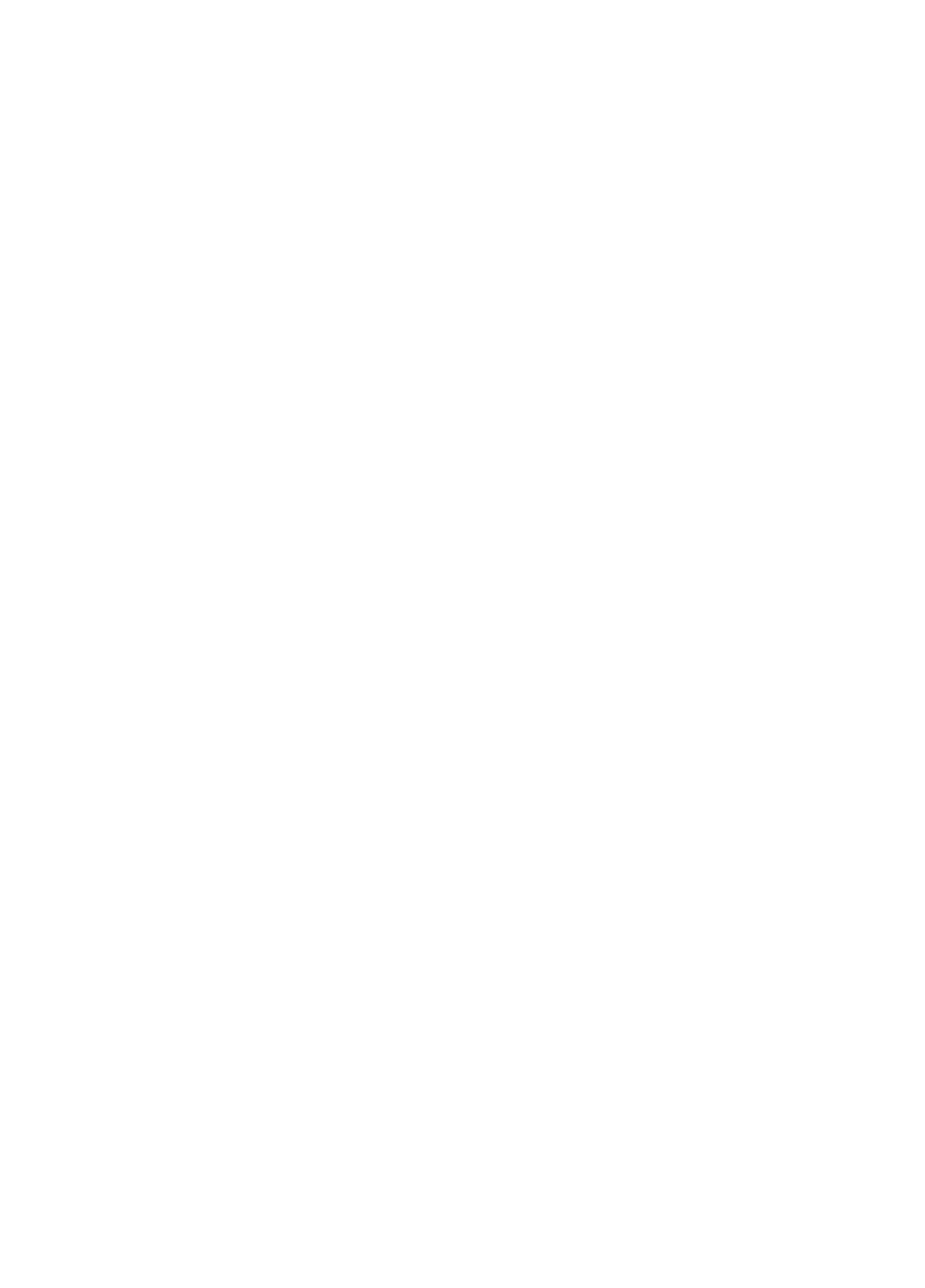
Миннеаполис
Аэронавтический факультет Университета Миннесоты открылся осенью 1929 года. Ученик «отца русской авиации» Н.Е. Жуковского Джон Акерман был его деканом бессменно почти три десятка лет